Еще раз: все, что может произойти с этим интеллектуальным объектом, уже предполагается самим фактом существования этого интеллектуального объекта как такового, а самое главное – это будет происходить, потому что возникнут обстоятельства, которые являются точно такими же интеллектуальными объектами моего внутреннего психического пространства, столь же простроенными и организованными.
Грубо говоря, ломается машина, потому что в ней есть сложные механизмы, которые испытывают нагрузки, а угоняют машину, потому что есть воры, которые так поступают, отправляясь потом или в тюрьму, или на Багамы, наконец, аварии происходят, потому что одни машины могут столкнуться с другими машинами и т. д. и т. п. Всё это как бы естественным образом вытекает из самой той ткани картины реальности, в которой мы все счастливо существуем. И машина не будет делать ничего, что бы ни было так обусловлено. Она не пойдет в пляс, заслышав музыку, не обидится на нас за то, что мы ее не помыли, не выдаст нам набор каких-то произвольных требований, не уедет от нас куда-то на край света по собственной прихоти, наконец, она даже умереть не может без нашего на то согласия.
Но вот с «другим человеком» всё иначе: будучи таким же интеллектуальным объектом нашего внутреннего психического пространства, как и автомобиль, он на все это способен. Он, как бы будучи в нас, обладает в нас же самих своей собственной волей, является как бы самодвижущимся и непредсказуемым элементом нашего собственного внутреннего психического пространства, и в этом его уникальная особенность, имеющая для нас чрезвычайные последствия.
И суть этих последствий состоит в том, что наш собственный индивидуальный мир интеллектуальной функции, будучи нашим (делаемым нами), а потому, казалось бы, не могущий нам сопротивляться (теоретически мы всегда можем организовать его так, чтобы нам с самими собой было вполне комфортно), как выясняется, может все-таки в каких-то пунктах оказывать нам реальное противодействие.
Иными словами, определенное сопротивление нам в этой виртуальной, по существу, среде мира интеллектуальной функции оказывается возможным, а потому мы сами и ограничены в своем произволе. Хотя, казалось бы, к этому нет никаких оснований – как можно нас внутри же нас самих извне ограничивать? Но вот, оказывается, можно, и именно по причине этой специфичности интеллектуальных объектов «другие люди».
Казалось бы, даже если так, зачем столько об этом столько говорить?
Дело в том, как мне представляется, что именно этот механизм делает возможным то, что мы считаем высшей формой человеческого мышления. Если бы мы не испытывали этого внутреннего сопротивления в нашем собственном психическом пространстве (если бы его не было в нас в таком виде, как оно здесь описано), то всё мышление, на которое мы в принципе были бы способны, было бы лишь ситуативной интеллектуальной активностью. Если бы не этот эффект непредсказуемости, связанный с произвольностью поведения данных специальных интеллектуальных объектов («других людей») на пространстве нашего индивидуального мира интеллектуальной функции, мы бы катались, подобно шарам, по не замечаемой нами самими кривизне плоскости своего мышления.
Именно тот факт, что в нашем пространстве мышления возникли странные объекты с неким присущим им и непонятным нам функционалом (что и обуславливает их непредсказуемость для нас), и «ломает» траекторию нашего движения в нашем же собственном внутреннем психическом пространстве, заставляет нас предварительно продумывать ее. Именно наличие таких специальных интеллектуальных объектов в нашем индивидуальном мире интеллектуальной функции – этих «других людей» – и создает для нас ситуацию, когда мы вдруг начинаем понимать, что некие непредвиденности могут возникнуть и что будущее полно неких скрытых возможностей, о которых мы не знаем.
Мир из «понятного» превращается – пусть лишь и зонально – в «непонятный» и «неоднозначный», и эта его «непонятность», «неоднозначность» заставляет нас продумывать разные версии и разворачивать дополнительный объем вариантов, которые просто не возникли бы в случае другой нашей внутренней организации.
Соображение № 6
О метрике внутреннего психического пространства
Относительные размеры неокортекса приматов положительно коррелируют с размером организуемых ими социальных групп: чем массивнее объем коры представителей того или иного вида, тем большие социальные группы эти обезьяны способны образовывать [Р. Дамбар]. Собственно, именно этот факт и натолкнул антропологов на создание так называемой социальной гипотезы интеллекта, так же возникло и знаменитое «число Дамбара» [44].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
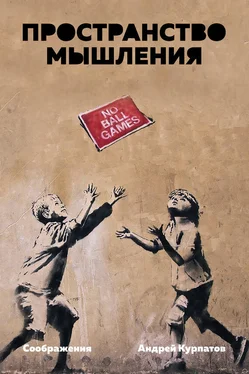







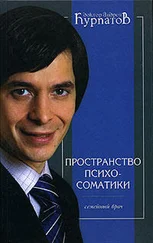
![Андрей Курпатов - Мышление. Системное исследование [litres]](/books/412415/andrej-kurpatov-myshlenie-sistemnoe-issledovanie-thumb.webp)


