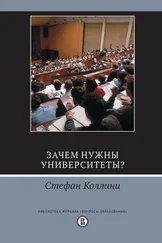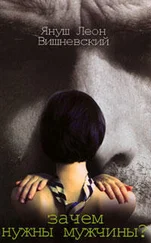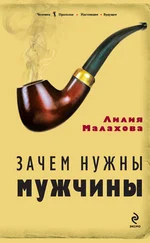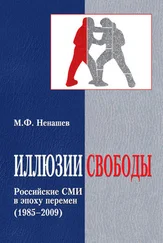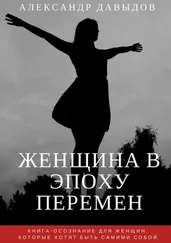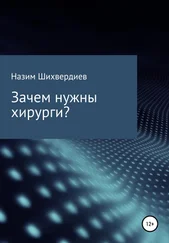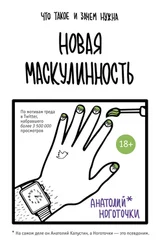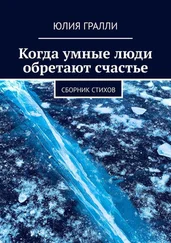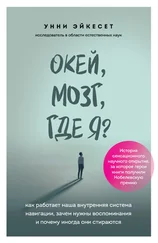Потому что меня не мысли интересовали, как всех «приличных» писателей, а мысли, в которых обнаруживается потенциал идей, способных стать строительным материалом для картины мира. Мою прозу, которую я называю «мужской прозой» (умной прозой), при желании можно вынести за скобки литературы. Объявить ее несуществующей. Другой прозой.
Я не вписался в либеральную повестку («все на продажу, и да здравствует только то, что продается, да здравствуют „великие, но продажные мысли, коротенькие-коротенькие, как у Буратино“, и если умная, о-о-очень философская продукция не продается, тем хуже для нее, аминь»). Радикально.
За желание писать ту прозу, которую считаешь нужной, надо платить. Скорее всего, я так и не узнаю настоящей цены своему творчеству, за которое мне, кстати сказать, совершенно не стыдно. Я ни строчки не написал до того момента, пока не понял, что у меня есть идеи, есть моя, неисчерпаемая в своей глубине картина мира, мне есть что сказать людям, – до того момента, когда осознал сложность задачи: совместить идеи и литературу. Ведь чем дальше, тем больше свободной литературе предписывается быть «зоной», то бишь творчеством, свободным от идей (соответственно, я все дальше и дальше дистанцируюсь от такой «зоны»).
Только в сорок с небольшим написал я свой первый роман, «Легкий мужской роман». До этого молчал, не унижаясь до банальных мыслей, выдаваемых за идеи. Зато до сих пор не могу остановиться. Сегодня уже не романы, а стихи прут из меня, и я вовсе не пишу их в стол. Я наслаждаюсь творчеством. «Понимание – это радость жизни»: так называется одна из моих научных книг. Понимание, выраженное в идеях, – это радость жизни. Творчество (философское, художественное, мыслительное) – это самая настоящая радость жизни.
Я получил второй урок : в общественном сознании отсутствует запрос на проблемы, волнующие личность, как то: истина, добро, красота, свобода, счастье, справедливость; соответственно, отсутствует запрос на литературу умную, на литературу идей. Присутствует запрос на массовую литературу, на чтиво, которое отвлекает «маленького человека» (большого эгоиста при этом) от идейных проблем, волнующих личность. В лучшем случае есть смутный запрос на литературу, которая растекается мыслью по древу, – так сказать, демонстрирует пластику мысли, пластику ради пластики.
Литература умерла. Да здравствует «литература» (чтиво)!
Я усвоил урок. И моя литература стала более яростной. Я же читал «Старик и море» Э. Хемингуэя.
В конце концов я задал себе два простых вопроса: чем я занимался всю свою сознательную жизнь и каковы мои достижения?
Ответить на эти вопросы, то есть перевести взволнованные мысли на сдержанный язык идей, оказалось совсем не просто. Вот что у меня в результате получилось.
Мой вклад в научное познание. Попытка самооценки
Если попытаться кратко и внятно ответить на вопрос, каков вклад Андреева А. Н. в научное познание , то ответ может быть таким.
Андреев А. Н. внес в научную повестку закон информационной эволюции (закон сохранения и превращения информации) и предложил свою формулировку и трактовку этого универсального диалектического закона.
Чем вызвана актуальность подобного закона?
В науке гуманитарной, как и во всех других науках, накопились массивы больших данных (по аналогии со сферой IT их в известном смысле можно назвать Big Data). Возникла потребность их упорядочить – с помощью идей, законов, алгоритмов, концепций. Кроме того, стал очевиден междисциплинарный характер гуманитарных знаний; более того, все более очевидной становится связь гуманитарных дисциплин с негуманитарными. Одна наука плавно «перетекает» в другую, и определенно сказать, где начинается одна наука и кончается другая, становится все более сложным.
Все это делает феномен Big Data в науках гуманитарных беспредельным, безграничным, что угрожает энтропией смыслов и хаосом. Науки гуманитарные в буквальном смысле теряют предмет своего исследования.
Обо всем = ни о чем.
По отношению к сфере гуманитарной (к так называемому человеческому измерению ) закон информационной эволюции проявляется как смена типов управления информацией : от низшего (бессознательно-психологического) к высшему (сознательно-разумному). От психики к сознанию, от натуры (которая доминирует сегодня в модусе цивилизации ) к культуре, от индивида к личности, от социоцентризма к персоноцентризму. Культура, личность, литература, добро, истина, красота как чувственно воспринимаемый смысл, свобода, справедливость, счастье – словом, все высшие культурные ценности (следовательно, и их антиподы: цивилизация, индивид, чтиво, зло, ложь, красота как способ отлучения от смысла, воля, несправедливость, удовольствие) обретают свою ценностную маркировку в пространстве, образованном двумя полюсами – разными типами управления информацией.
Читать дальше