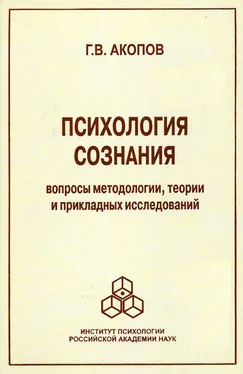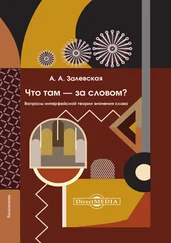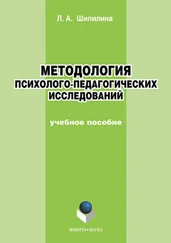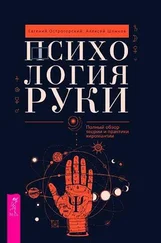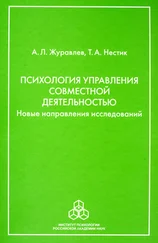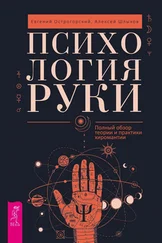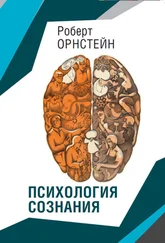Конечно, признает Чалмерс, мы не получаем и в этом случае ответа на все вопросы, но это свойственно любой фундаментальной теории. Хотя физика до сих пор не нашла убедительного фактологического подтверждения первичности материи, это, однако, не рассматривается как аргумент против теории вещества, позволяющей объяснить все типы материальных явлений и показывающей, как они выводятся из базовых законов. Это положение может быть применено и для изучения и объяснения сознаваемого опыта, считает Чалмерс. Такая позиция определяется им как разновидность дуализма. Но эта, согласно Чалмерсу, «безвредная версия дуализма» всецело совместима с научным мировоззрением. Такой подход не противоречит физической теории; необходимо найти «соединительные принципы» для объяснения того, как сознание возникает из физических процессов. Нет в этой теории, по мнению автора, и ничего мистического, более того, она характеризуется как «естественный (научный) дуализм».
С этой точка зрения, теория сознания должна иметь больше общего с физической теорией, нежели с биологической. Биологические теории, согласно Чалмерсу, не содержат столь фундаментальных принципов, отличаются определенной комплексностью и вполне упорядочены. Физические же теории, располагая фундаментальными принципами, стремятся к простоте и элегантности, поэтому, как указывает Чалмерс, и теория сознания должна также отличаться простотой, элегантностью и красотой.
Подход Чалмерса, опирающийся на физические аналогии и кладущий в свою основу принципы «естественного (научного) дуализма», противоположен, как будет показано далее, биологическому монизму Бехтерева.
Биологизм концепции Бехтерева заключается в том, что жизнь и психика рассматриваются автором как «неразрывное целое». Психика определяется как «продукт огромного запаса энергии» организма (Бехтерев, 1999, с. 178), т.е. вопрос о ее природе ставится в тесную связь с вопросом о природе энергии и условиях, приводящих к ее особому напряжению (Бехтерев, 1999, с. 196). Не случайно А.В. Брушлинский и В.А. Кольцова отмечают важное место энергетической концепции в системе научных взглядов Бехтерева (Брушлинский, Кольцова, 1994). Монизм концепции Бехтерева заключается также в попытке обоснования единого универсального отношения источника движения (активности) в неживых и живых объектах с явлениями энергетизма. Как считает автор, «ни одно внешнее явление, ни одно тело в природе не могло бы существовать, если бы за ним не скрывался тот или иной вид энергии. Словом, все внешние тела и явления в природе суть проявления энергии, видоизменяющей среду». И далее: «Точно так же и все внутренние факты и явления, которые мы открываем в нас самих путем самонаблюдения, а равно и все сопутствующие им материальные изменения нервных центров обязаны своим происхождением скрывающейся за ними энергии» (Бехтерев, 1999, с. 61).
Анализируя с естественнонаучных позиций антиномию «монизм–дуализм» в отношении материи и духа (сознания), Бехтерев не принимает ни монистического спиритуализма (идеализм), ни вульгарно‐материалистического объяснения психики. Автор разделяет позиции «монизма», утверждающего не противоположность или параллелизм материи и духа, а их единство (там же, с. 30). Материя и дух (душа и тело) рассматриваются как «два вида одного и того же факта, как субъективное и объективное проявление одного и того же процесса, как формы одного и того же вещества, которые нам кажутся другими только потому, что мы их познаем различно» (там же, с. 35). Предвосхищая Чалмерса, Бехтерев пишет: «… мы держимся также идеи параллелизма как научного факта, но признаем, что психическое и физическое суть два несоизмеримых между собой явления, не допускающих никаких непосредственных переходов одно в другое» (там же, с. 60). Это вынужденная позиция, связанная с тем, что «все попытки пойти дальше параллелизма в объяснении существующих соотношений между физическими и психическими явлениями наталкивались до сих пор на непреодолимые препятствия» (там же). Бехтерев считает, что физиологические процессы мозга и мысль «суть лишь две стороны одного и того же явления». Различие лишь в том, что «одно и то же явление рассматривается нами с двух различных точек зрения: с внутренней и внешней». Автор подтверждает свою точку зрения мнением Фехнера и примером существования текста на двух языках, «каждый из них представляет собой как бы подстрочный перевод другого…», и «мы не можем одновременно воспринимать и физическое и психическое как одно целое, а можем воспринимать его лишь поочередно с двух сторон – внутренней и внешней» (там же, с. 43–44). Бехтерев объясняет одновременность их протекания «одной общей, скрытой от нас причиной, которую мы пока условно назовем скрытой энергией», которая представляет собой не только физическую величину, но и содержит в себе психическое, как бы в потенциальном состоянии (там же, с. 61).
Читать дальше