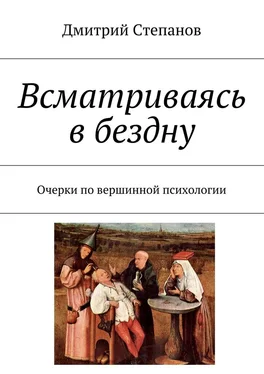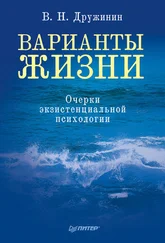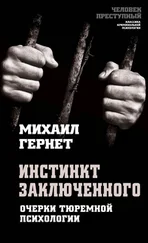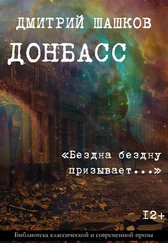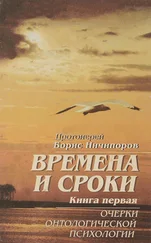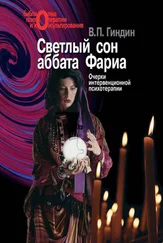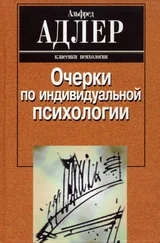Остается открытым вопрос о происхождении элементарных оппозиций. Одни считают, что «бинарность физиологически обусловлена» [21, с. 58]. Другие полагают, что она определяется культурой, и сводят, например, происхождение бинарных оппозиций к некой доминантной паре противоположностей (свой – чужой, мужской -женский, правый – левый). [5; 23; 30; 61; 77]
На мой взгляд, происхождение бинарных оппозиций целиком и полностью обусловлено аффективным восприятием архаичного человека. Все многообразие феноменов окружавшего его мира он чувственно классифицировал на позитивные и негативные для него предметы и явления. При этом феномены, воспринимавшиеся архаичным человеком позитивно, он ассоциировал между собой. Соответственно он проводил ассоциативную связь и между негативными явлениями. Так, согласно исследованиям Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова в славянских мифологических системах позитивно маркировались верхний, правый, мужской, старший, близкий, свой, светлый, сухой, видимый, белый или красный день, весна, небо (в отношении к земле), земля (в отношении к преисподней), огонь (в отношении к влаге), дом, восток (по отношению к западу), юг (по отношению к северу), солнце; а негативно – нижний, левый, женский, младший, далекий, чужой, темный, влажный, невидимый, черный, ночь, земля (в отношении к небу), преисподняя, влага (по отношению к огню), лес, запад, север, луна. [26]
Семантические связи, соединяющие между собой позитивно или негативно маркированные представления архаичного человека об окружающем его мире, являлись достаточно гибкими и варьировались в самых различных контекстах. Обусловлено это было тем, что в основе этих семантических связей лежали не жесткие врожденные ментальные структуры, а культурно обусловленное ассоциативное мышление. По справедливому замечанию Р. М. Фрумкиной, «как феномен ассоциативная связь определена именно культурой во всем ее многообразии – всеми знаниями, опытом, в том числе – чувственным опытом, но при этом таким опытом, в котором мы не отдаем себе отчета.» [76, с. 192]
Чувственный опыт архаичного человека кодировался им прежде всего в языке, а затем и во всевозможных культурных контекстах (в мифах, ритуалах, искусстве и т. д.). Впоследствии язык и данные контексты организовывали чувственный опыт следующих поколений, бессознательно направляя их ассоциативное мышление уже вполне определенными путями. Отсюда преемственность в архаическом обществе не только канонических мифологических текстов, но и самого мифологического мышления, оперировавшего типичными коллективными ассоциациями.
Подобная преемственность характерна для архаичных обществ. Но как возможно мифопоэтическое мышление в современных контекстах?
Выдающийся исследователь детской психологии Ж. Пиаже предполагал в свое время, что «настанет день, когда мысль ребенка по отношению к мысли нормального цивилизованного взрослого будет помещена в ту же плоскость, в какой находится „примитивное мышление“, охарактеризованное Леви-Брюлем, или аутистическая и символическая мысль, описанная Фрейдом и его учениками, или „болезненное сознание“ (если только это понятие, введенное Ш. Блонделем, не сольется в один прекрасный день с предыдущим понятием)». [47, с. 390]
Сопоставление первобытного и детского мышления с патологическим мышлением больных шизофренией, конечно, глубоко ошибочно. И первобытное, и детское мышление направлены на освоение и овладение реальностью, а не на бегство от нее.
Детское и первобытное мышление действительно могут быть соотнесены друг с другом. То, что их объединяет, это наглядно-действенный и аффективно-ассоциативный характер обоих видов мышления.
Ж. Пиаже обратил внимание на синкретизм детского мышления: «Подобно сновидению, он „сгущает“ в одно целое элементы, объективно разнородные. Подобно сновидению, он „перемещает“, в силу ассоциации идей, чисто внешних сходств или каламбурных ассонансов (habit, habitude), черты, которые должны были бы, казалось, применяться к одному определенному предмету. Но в то же время это сгущение и это перемещение не столь нелепы, как во сне (и не так проникнуты чувственным тоном) или в аутистическом воображении, – они близки даже к логическому сравнению.» [47, с. 127]
Причину подобного синкретизма Ж. Пиаже видел в «эгоцентризме» ребенка. Анализируя исследования Пиаже, Л. С. Выготский отмечал, что «синкретически мыслит ребенок там, где он не способен еще мыслить связно и логично. Когда ребенка спрашивают, почему Солнце не падает, то он, разумеется, дает синкретический ответ… Но если спросить ребенка относительно вещей, доступных его опыту, доступных его практической проверке, а круг этих вещей находится в зависимости от воспитания, то естественно трудно было бы ожидать от ребенка синкретического ответа.» [18, с. 69, 70]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу