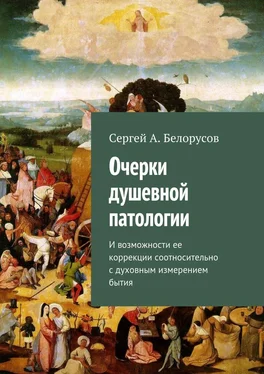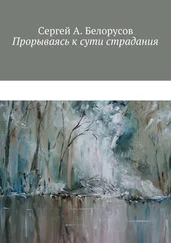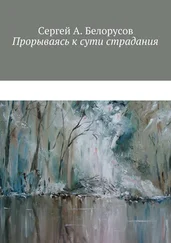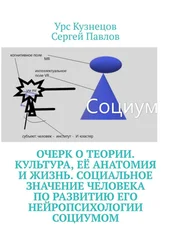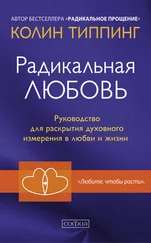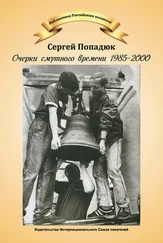Православие последних дней приходит к данной само-идентификации, чему свидетельство мы видим у наших несомненно духоносных современников, не взирая на различные акценты в их духовных воззрениях и практиках:
Авторитетный и харизматичный (в лучшем смысле этого слова) богослов о. Сергий Булгаков подтверждает:
«Хомяков с б и л католическую постановку вопроса, которая проникла и в православие. Она поставляла православие в положение нерешительного, непоследовательного католичества, которое имеет неоспоримую заслугу последовательности и развивает идею о внешнем органе церковной непогрешительности до конца. Вопрос стоит именно так: или свобода православия или…» и продолжает: «Исповедание единой, святой, соборной и апостольской церкви совсем не исключает допущения возможности того, что свет ее простирается и далее пределов ее земной организации. Господь по неисповедимым путям своим делает ей сопричастными многие миллионы христиан и за этими пределами. Иначе говоря, может быть православие за пределами Православной церкви, как организации, ecclesia extra ecclesiam. Это не означает, что есть несколько церквей, но единая церковность действует вширь и вглубь. Границы этого общества не положены. <���…> Ап. Петр говорит о проповеди во аде (1 Петр. 3: 19—20). Отчетливая и радикальная постановка вопроса о вероучительном авторитете в Православии принадлежит Хомякову, вписавшему этим свое имя неизгладимо в истории православного богословствования, как апостол свободы в Православии [31] ».
Кристально ясный и отважный в процессе рефлексии своего служения пастырь пишет:
«Все яснее становится, мне, что Православие – это стихия абсолютной свободы. Отвращение к пропаганде, насилию хотя бы чисто идейному или психическому, боязнь убеждать, вера только в самую наличность религиозной жизни – все остальное придет само [31] ».
Возродивший древний подвиг юродства Христа ради, епископ Варнава (Беляев), в одном из писем, поучает:
«Православие не заключается только в формальных догматах (как почему-то настаивают в Патриархии), не только в морали – благочестии, чем хотят ограничиться зарубежные епископы, но и в харизматической силе Св. Духа. Скажут, не всем быть чудотворцами. Да и не нужно. Святые отцы говорят, что есть такие дарования, которые не обладая блеском чудотворений, знамений и пророчеств, тем не менее куда выше последних [31] ».
Современный подвижник о. Серафим Роуз, апостольски просиявший в среде, наиболее отстоящей от исторического Православия, к концу жизни высказал поразившее его собратьев утверждение:
«Все церковные организации в конце концов поклонятся антихристу.» а в последней беседе с паломниками, он, призвав «глубже чувствовать Церковь Христову и то, что наша формальная принадлежность ей недостаточна для спасения», процитировал слова современного румынского исповедника о. Георгия Кальчу о том, что значит быть в Церкви: «Церковь Христова жива и свободна. Ты находишься в Церкви всякий раз, поднимая сломленного скорбью, подавая нищему, утешая больного. Ты в Церкви, когда взываешь «Господи, помоги мне». Ты в Церкви, когда ты добр и терпелив и отсекаешь гнев на брата, даже если он ранил твои чувства. Когда честно трудишься, возвращаясь домой уставшим, но с доброй улыбкой. Сострадай тому, кто рядом. Никогда не спрашивай «кто он?», но говори – «он не чужой. Он как и я – Церковь Христова [31] ».
Ступая вслед за теми, кто утверждает примат «духа» над «буквой», пусть даже эти буквы взяты из Писания и Предания, кто дорожит любым проявлением Добра: позитива, ценности, чувства того, что «хорошо» (Быт. 1: 10), кто любуется «полевыми лилиями, которые сегодня есть…» (найдите сами в «Новом Завете» – прим. авт.), мы обнаруживаем себя в третьем, согласно нашей классификации, восприятии явления Православия. Эта вера, по мнению автора, сравнительно с другими Христианскими исповеданиями, хороша тем, что не подчиняется в отличие о Католичества единому авторитету, вещающему в абсолюте ex cathedra, и тем, что, отличаясь от Протестантизма, сохранила Таинства, то есть то, к чему следует приступать в смирении, благоговении и настоящем непонимании.
Несомненно, последует возражение о чрезмерных границах Православия. Мы можем тут предложить лишь руководствоваться следующим принципом: «Кто имел возможность знать Христа» и отступил – тот вне. Кто стремился жить, не ведая Христа, но так, как бы одобрил Господь – тот православен».
Читать дальше