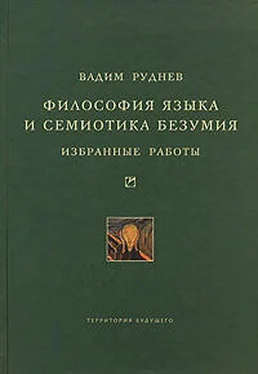Цель генеративной процедуры – перейти от поверхностной структуры к глубинной путем анализа трансформаций [Хомский, 1972]. Цель психоанализа – выйти от сознательного к бессознательному при помощи анализа механизмов защиты.
Глубинная структура, таким образом, представляется функционально чем-то схожим с бессознательным.
Трансформации в генеративной грамматике и соответствующие им «приемы выразительности» в генеративной поэтике напоминают «механизмы защиты» бессознательного в психоанализе.
В генеративной грамматике это такие трансформации, как пассивная, негативная, вопросительная, номинативная.
Мальчик ест мороженое. (Активная конструкция.)
Мороженое съдается мальчиком. (Пассивная конструкция.)
Мальчик не ест мороженого. (Негативная конструкция.)
Ест ли мальчик мороженое? (Вопросительная конструкция.)
Мороженое, съедаемое мальчиком. (Номинативная конструкция.)
Глубинная структура, выявляемая путем этих трансформаций: актант-субъект (мальчик), актант-объект (мороженное) и нетранзитивное отношение поедания, устанавливаемое между ними, сообщает нечто более общее и в определенном смысле сокровенное, маскируемое поверхностными структурами: не вопрос, не утверждение, не отрицание, не констатация, не инверсия актантов, даже не язык вовсе – некое абстрактное надъязыковое бессознательное. Мысль в чистом виде. Мысль о мальчике и съедании им мороженого. Мысль, не замаскированная, не перелицованная речью, если воспользоваться афоризмом из «Трактата» Витгенштейна.
В генеративной поэтике лингвистическим трансформациям соответствуют приемы выразительности – контраст, совмещение, сгущение, затемнение, конкретизация, варьирование, увеличение, обобщение. В статье «Инварианты Пушкина» А. К. Жолковский так формулирует основной потаенный смысл, «тему» (соответствующую языковой глубинной структуре) всего творчества Пушкина: «объективный интерес к действительности, осмысляемый как поле взаимодействия амбивалентно оцениваемых начал изменчивость / неупорядоченность и неизменность / упорядоченность (сокращенно: амбивалентное противопоставление изменчивость / неизменность, или просто изменчивость / неизменность)».
В дальнейшем эта абстрактная тема подвергается в творчестве Пушкина конкретизации и варьированию. Например, «в физической зоне изменчивость / неизменность предстает в виде противопоставлений движение / покой, хаотичность / упорядоченность, прочность / разрушение, газообразность / жидкость, мягкость / твердость, легкость / тяжесть, жар / холод, свет / тьма и др.; в биологической – жизнь / смерть, здоровье / болезнь; в психологической – страсть / бесстрастие, неумеренность / мера, вдохновение / отсутствие вдохновения, авторское желание славы и отклика / равнодушие к чужому мнению; в социальной – свобода / неволя. Далее, мотивы, разделяемые в теории, в реальных текстах выступают в многообразных совмещениях. Например, в следующем отрывке мотивы неподвижность, движение, разрушение (физическая зона) служат в то же время и воплощением мотивов бесстрастие, неволя, свобода, страсть (психологическая и социальная зона)» [Жолковский, 1979: 7–8].
Кто, волны, вас остановил, Кто оковал [ваш] бег могучий, Кто в пруд безмолвный и дремучий Поток мятежный обратил? Чей жезл волшебный поразил во мне надежду, скорбь и радость [И душу] [бурную…] [Дремотой] [лени] усыпил? Взыграйте, ветры, взройте воды, Разрушьте гибельный оплот – Где ты, гроза – символ [свободы? Промчись поверх невольных вод].
В психоанализе бессознательное защищает себя от «агрессии» аналитика при помощи механизмов защиты: сопротивление (Widerstand), вытеснение (Verdrangung), замещение (Ersatzbildung), повторение (Wiederholung), сгущение (Verdichtung), отрицание (Verneinung), перенос (Ubertragung).
Лакан в работе «Ниспровержение субъекта и диалектика желания в бессознательном у Фрейда» подчеркивал сходство механизмов защиты с поэтическими тропами, понимаемыми им в широком якобсоновском смысле как макроририторические элементы: «… механизмы, описанные Фрейдом как механизмы «первичного процесса», т. е. механизмы, определяющие режим деятельности бессознательного, в точности соответствуют функциям, которые эта научная школа считает определяющими для двух наиболее ярких аспектов деятельности языка – метафоры и метонимии , т. е. эффектам замещения и комбинации означающих…» [Лакан, 1997: 154].
Пример из статьи Фрейда «Из истории одного детского невроза» (Человек-Волк). Герою снятся волки на дереве. После этого он начинает бояться волков. Волк олицетворяет отца, как показывает Фрейд (то есть произошло замещение ). Боязнь волка-отца связана с вытеснением увиденной, возможно, героем в младенчестве сцены коитуса родителей в положении сзади. По предположению Фрейда, на самом деле мальчик видел сцену совокупления животных, а потом произвел перенос ее на совокупление родителей, которого он, возможно, в действительности и не видел, но лишь хотел увидеть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу