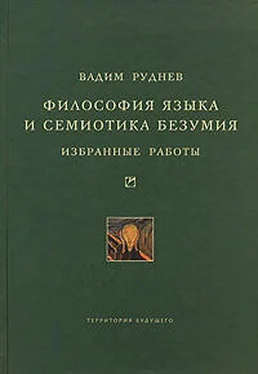В этой связи нельзя напоследок не упомянуть фигуру Ницше, жизненный проект которого превратил бред величия в один из устойчивых культурных паттернов начала XX века. Здесь и очевидный акцентуированный нарциссизм, и культ умирающего и воскресающего Диониса, антиэтика грандиозности и христоборчества и клинический бред величия с экстраективной идентификацией с Христом, Антихритом и Дионисом. В момент начала острого психоза в 1889 году Ницше подписывал открытки, посылаемые разным людям, либо Дионис, либо Распятый [Ницше, 1990: 2, 809]. Идеи величия в явном виде имеются уже в последнем трактате «Esse homo» («Се, человек!» – слова, сказанные Пилатом об Иисусе [Иоанн, 19, 5]): Ницше называет себя самым мудрым, свои книги самыми великими, отождествляет себя со своим отцом [Ницше, 1990: 2, 703], говорит что при встрече с ним «лицо каждого человека проясняется и добреет» [Там же: 723], называет себя Антихристом (725) и Дионисом (768).
Последний симптом: внезапная демаскировка Я, переутомленного масками и требующего наконец своей собственной речи, – невыносимое fortissimo самозванств, настоящее насилие над Евтерпой: я ученик философа Диониса; я северный ветер для спелых плодов, я всегда выше случая; я так умен; я пишу такие хорошие книги; я впервые открыл трагическое; я первый имморалист; я изобретатель дифирамба; я слишком новый, слишком богатый, слишком страстный; я обещаю трагический век… Только с меня начинаются снова надежды; я знаю свой жребий; моя истина ужасна; я первый открыл истину; я тот, кому приносят клятвы; я всемирноисторическое чудовище; я анти-осел; я рок; я не человек, я динамит, – и уже почти машинально модулируя в тональность паралича и комбинированного психоза – среди индусов я был Буддой, в Греции – Дионисом; Александр и Цезарь – мои инкарнации, также и поэт Шекспира – лорд Бэкон; я был напоследок еще и Вольтером и Наполеоном, возможно, Рихардом Вагнером. <���…> Я к тому же висел на кресте. <���…> Я каждое имя в истории [Свасьян, 1990: 33].
Ср. отзвуки представлений о грандиозной нарциссической жертвенности в тексте ирландской средневековой традиции:
…вихрь в далеком море Я,
волны бьются в берег Я,
гром прибоя это Я,
бык утеса это Я,
капля росы это Я,
я прекрасный это Я,
вепрь могучий это Я,
он в заливе это Я,
озеро в долине это Я,
слово бога это Я,
пламя песни это Я,
возглавляю войско Я,
бог главы горящей Я…
[ Поэзия Ирландии, 1988: 23 ]
Наше последнее замечание будет касаться интерпретации того, почему стандартным персонажем обыденных представлений о бреде величия является Наполеон. Дело в том, что негативное представление о Наполеоне как о холодном грандиозном нарциссе, бездушном завоевателе и т. д., представление, впитанное русским интеллигентом из романа Толстого «Война и мир», является далеко не типичным для культуры xix века, когда формировались обыденные представления о «мании величия». В эпоху романтизма, особенно после смерти Наполеона на острове Св. Елены в 1821 году, отношение к нему было скорее амбивалентным и даже с уклоном в героизацию – Наполеон воспринимался не столько как великий полководец, но как творец нового мира, человек, отдавший себя в жертву покорению Французской революции и преследуемый бездарными врагами, которые после победы над ним при Ватерлоо установили полицейский режим в Европе («Европа в рубище Священного Союза», по выражению Мандельштама), умерший, как мученик, в изгнании. В свете всего сказанного о бреде величия именно такая амбивалетность, соотносимая с диалектикой космогонического творения и жертвы, и позволила имени Наполеона стать нарицательным символом экстраективной идентификации.
О ПРИРОДЕ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В чем природа, причина и механизмы психических заболеваний, в чем тайна их происхождения и протекания? Традиционная клиническая психиатрия и психоанализ отвечают на этот вопрос по-разному. С точки зрения клинической психиатрии психические заболевания передаются по наследству. С точки зрения психоанализа они чаще всего формируются в раннем детстве. Ответ клинической психиатрии вообще не является ответом. Допустим, шизофрения передалась от отца к сыну, а у отца появилась благодаря его отцу и так далее ad infi nitum. Эта точка зрения ведет к бесконечному регрессу. Должен был существовать какой-то первопредок, который первый раз заболел шизофренией или у которого некоторое патологическое количество приобретенных злокачественных наследственных навыков должно было перейти в качество – в новую болезнь. Никто ничего не знает об этом первопредке, и никого этот вопрос не интересует за исключением английского психиатра Тимоти Кроу, который вообще считает, что шизофрения есть болезнь homo sapiens в целом. Нам эта гипотеза близка, потому что на вопрос о причине заболевания рода человеческого шизофренией Кроу отвечает, что в этом повинен человеческий язык. Но есть много психических заболеваний разной степени тяжести и разного протекания, не сводимых к шизофрении. И их природу тоже надо как-то объяснить. В целом я согласен с Кроу – причину надо искать в языковых – шире – семиотических искривлениях сознания. Но я не согласен с ним в том, что касается наследственного фактора. Здесь мне ближе психоаналитическая точка зрения, трактующая причину и природу семиотических искажений (хотя за исключениям Лакана никто из психоаналитиков прямо не говорит о семиотических искажениях, а Лакан говорит крайне неясно и запутанно) как заложенных в раннем детстве, заложенных в контакте несформировавшегося детского сознания со сформировавшимся и чаще всего в той или иной степени патологическим взрослым сознанием. Здесь мне близка точка зрения антипсихиатров – прежде всего, Грегори Бейтсона и Томаса Саса. Однако никто из них, хотя каждый подходил к этому по-своему, не сформировал ответа на вопрос со всей прямотой и парадоксальностью – природа психических заболеваний кроется в искажении семиотических структур сознания, то есть языковых, отсюда психическая болезнь – болезнь языка, порча языка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу