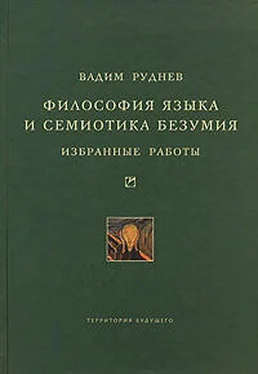При интроективной идентификации Я и объект сохраняют свою объективную идентичность, акцентуируется только зависимость Я от объекта-интроекта; при проективной идентификации сохраняется идентичность Я, но искажается идентичность объекта; при экстраективной идентификации реальные объекты исчезают из жизни субъекта на их место становятся бредово-галлюцинаторные экстраективные объекты, и, что наиболее существенно, собственное Я разрушается и практически перестает быть таковым, растворяясь в бредовом экстраективном объекте. Как возможно такое растворение с логико-философской и психологической точек зрения? Этот вопрос требует подробного рассмотрения.
После отказа от реальности, являющегося необходимым условием психоза [Freud, 1981], сознание субъекта затопляется символическим. То, что было раньше воображаемым у невротика, становится символическим у психотика (подробнее см. [Руднев, 1999]). Помимо прочего это означает, что картина мира психотика становится берклианской, его реальность – реальностью его субъективных ощущений и языка, на которым он говорит об этих ощущениях, причем языка особого, лишенного сферы референции во внешнем мире (Д. Шребер, автор «Мемуаров нервнобольного», называл этот язык базовым языком (см. [Freud, 1981a, Руднев, 2001]). До тех пор пока сознание психотика не дошло до полного разрушения, до слабоумия, Я в его мире еще удерживается, но особенностью этого психотического Я является акцентуация, утрирование тех свойств, которые присущи любому Я, как центру высказывания в обычном языке. Что же это за особенности?
В любом языке, в котором в принципе есть «я», «я» – это говорящий. Говорящий «присваивает» себе то, что он произносит, в определенном смысле он присваивает себе весь язык [Бенвенист, 1974: 296], но поскольку для психотика язык и мир совпадают, то тем самым можно сказать, что психотическое Я присваивает себе весь мир. Отсюда становится ясным логическое обоснование перехода от интроективной невротической идентификации к экстраективной психотической. Если невротик говорит «Я Наполеон» («Мы все глядим в Наполеоны»), то это означает отождествление имен на уровне интенсионала. На экстенсиональном референциальном уровне это означает всего лишь «Я похож на Наполеона (кажусь себе похожим, хочу быть похожим)» и т. п. Говорящий «Я Наполеон» на уровне интроективной идентификации, отдает себе отчет в том, что на самом деле он не Наполеон, а такой-то с таким-то именем и такой-то биографией. Психотик, говорящий «Я Наполеон», подразумевает тождество объектов на уровне экстенсионалов (но это для него то же самое, что для невротика тождество имен на уровне интенсионалов). Особенностью мышления психотика является то, что для него различие между значением и референцией (фундаментальное различие в языке, в котором в принципе есть позиция говорящего [Quine, 1951; Даммит, 1987; Хинтикка, 1980; Степанов, 1985]), между фрегевским смыслом и денотатом, это различие пропадает. Язык психотика – это первопорядковый язык. В нем все высказывания существуют на одном уровне (как в латентно-психотической логико-философской доктрине раннего Витгенштейна; подробно об этом см. [Руднев, 2001]). Психотический язык не признает иерархии, а стало быть, является не логическим, а мифологическим, то есть, строго говоря, уже не языком, а языком-реальностью. Для мифологического языка-реальности как раз характерны однопорядковость и отождествление имен, понимаемых как имена-объекты. Ср.:
Мифологическое описание принципиально монолигвистично – предметы этого мира описываются через такой же мир, построенный таким же образом. Между тем немифологическое описание определенно полилингвистично – ссылка на метаязык важна именно как ссылка на иной язык. <���…> Соответственно и понимание в одном случае [немифологическом. – В. Р.] так или иначе связано с переводом (в широком смысле этого слова), а в другом же [мифологическом. – В. Р.] – с узнаванием, отождествлением [Лотман, Успенский, 1992: 58].
Однопорядковость языка при экстраективной идентификации сказывается, в частности, в том, что в речи мегаломана, по-видимому, исключены пропозициональные установки. Во всяком случае, трудно представить в такой речи высказывания типа:
1. Я полагаю, что я Наполеон.
2. Мне кажется, что я Наполеон.
3. Я убежден, что я Наполеон.
Можно предположить, что клинический мегаломан (паралитик или парафреник) теряет способность логически репрезентировать свою субъективную позицию как говорящего, так как в последнем случае ему пришлось бы разграничивать значение и референцию, то есть тот факт, что он о чем-то говорит, и содержание того, о чем он говорит, – с референцией к внешнему миру, поскольку именно это различие между внешним миром (областью экстенсионалов) и говорением о внешнем мире (областью интенсионалов) в данном случае и утрачивается. Истинность того, что говорится в мегаломаническом высказывании, не подлежит верификации и гарантируется самим фактом говорения. Поэтому языковые возможности классического психотерапевтического воздействия на такое сознание также утрачиваются, поскольку психотерапия, даже поддерживающая психотерапия психотиков, состоит в обмене мнениями (то есть пропозициональными установками), во всяком случае, в попытке такого обмена. Единственная возможность психотерапевтического воздействия на такого пациента – принятие однопорядковой мифологичности его языка. В этом смысле показателен пример Дона Джексона, который в разговоре с пациентом, считавшим себя богом и вообще отказывавшимся от коммуникации, добился успеха (некоторой заинтересованности со стороны пациента), когда не только признал, что он бог, но передал ему больничный ключ как знак его божественных полномочий [Вацлавик, Бивин, Джексон, 2000: 282–283].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу