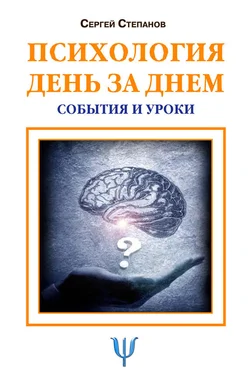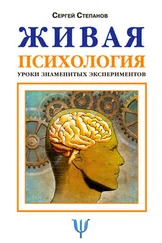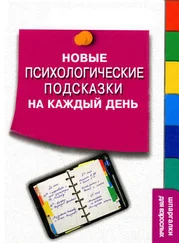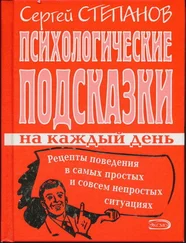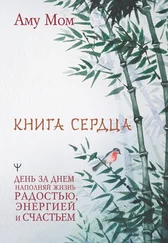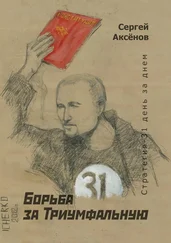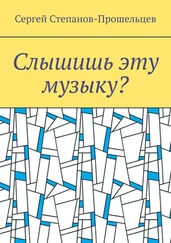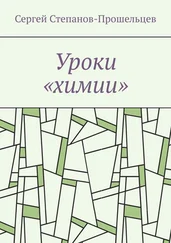Наблюдая близкого человека попавшим в жестокие руки кого-то властного и безжалостного, люди враз позабыли об игровой стороне опыта и приняли на себя роль униженных родственников-просителей, робеющих перед властью.
В ходе опыта в «тюрьме» побывало свыше полусотни людей, не участвовавших в эксперименте непосредственно. В том числе даже священник. Но лишь один-единственных человек – психолог Кристина Маслач, пришедшая проинтервьюировать испытуемых, – выразила вслух свой ужас и отвращение. У нее на глазах заключенных строем с мешками на головах вели в туалет. «Это ужасно – что вы делаете с этими ребятами!» – воскликнула Кристина, едва сдерживая слезы. По признанию Зимбардо, именно в этот момент он понял, что игру надо кончать. А если бы этих слов не прозвучало?..
Какие выводы подсказывает данный эксперимент? Дискуссии об этом не стихают уже много лет. Ясно одно – свою тюрьму едва ли не каждый из нас носит с собою и внутренне готов сыграть в ней роль безжалостного стража или жалкого узника. Какая роль выступит на первый план – зависит от сложившихся жизненных условий. Или все-таки от самого человека?
Еще в первой половине ХХ века сложились два основных подхода в трактовке побудительных мотивов человеческого поведения. Представители глубинной психологии, прежде всего фрейдистской ориентации, во главу угла ставили безотчетные побуждения инстинктивной природы, постоянно конфликтующие с жесткими социальными нормами. Их оппоненты – бихевиористы – настаивали на том, что побудителем любого акта является внешний стимул, с необходимостью требующий адекватной реакции.
Ожесточенный спор двух ведущих сил мировой психологии, сохраняя непримиримость их позиций, к середине века постепенно перешел в вялотекущую форму, позволяя неофитам солидаризироваться либо с одной крайностью, либо с другой.
Слабые попытки гештальтистов, прежде всего К. Левина, ввести в обсуждение этой проблемы принцип равновесия, широкого резонанса не имели. Непосредственно мотивацией гештальт-психологи практически не занимались, отдавая предпочтение изучению познавательных процессов, а концепция Левина, весьма автономная, окончательно оформилась лишь в послевоенный, американский период его научного творчества.
К началу пятидесятых казалось, что проблему мотивации можно считать если не окончательно решенной, то по крайней мере достаточно разносторонне разработанной. Оставалось только ждать, на каких позициях придут к консенсусу антагонисты из разных школ. Однако в середине пятидесятых этот застой был буквально взорван последовательной публикацией двух ярких работ, открывших новую эпоху в исследованиях мотивации. Их авторы, казалось, принадлежали к разным лагерям и говорили о разных вещах. Однако в историческом ракурсе становится очевидно, что их изыскания произросли из родственных корней и если не переплетаются, то в известном смысле перекликаются. Обе эпохальные публикации появились жарким летом, правда – с трехлетним интервалом.
25 августа 1954 годаувидела свет первая крупная работа Абрахама Маслоу «Мотивация и личность», принесшая ему впоследствии мировую известность. В ней автор с достаточным почтением отзывался о взглядах представителей двух ведущих сил мировой психологии, однако недвусмысленно от них дистанцировался и предлагал собственный подход, заставивший научную общественность заговорить о пробуждении «третьей силы». Именно так чуть позже не без гордости определят себя представители гуманистической психологии, одним из лидеров которой по праву считается Маслоу. В этой книге автор представил иерархическую модель человеческих побуждений, без описания которой не обходится сегодня ни один учебник по психологии личности. Именно по учебникам она и известна большинству отечественных психологов, хотя совсем недавно, с почти полувековым опозданием, увидел свет и русский перевод знаменитой книги Маслоу. Так или иначе, сегодня в очередной раз пересказывать «Мотивацию и личность» уже излишне, достаточно отослать читателя к оригиналу (точнее – к переводу). Хотелось бы только обратить внимание на то, как в концепции Маслоу получают свое творческое развитие взгляды немецкого физиолога К. Гольдштейна, который, будь он психологом, наверняка принадлежал бы к стану гештальтистов. Идея организмической целостности, непротиворечивости, равновесия, перед которой психологи разных школ спесиво захлопывали двери, настойчиво просачивалась в психологическую науку сквозь щели в рубленых частоколах классических теорий.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу