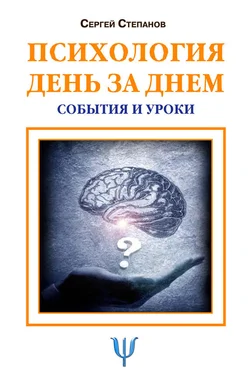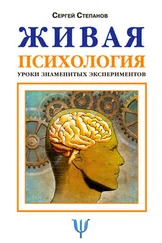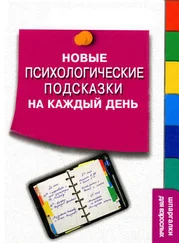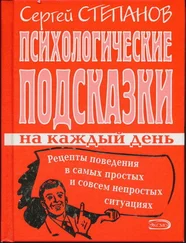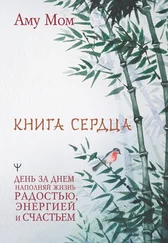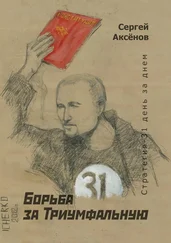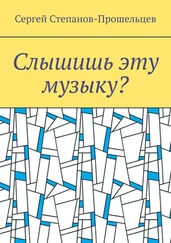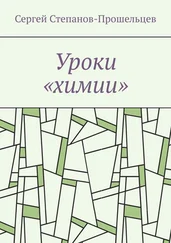Но та же Вики сама изобрела незвуковые способы доводить до приемных родителей свои желания. Чтобы покататься на автомобиле, она приносила карточку с изображением машины. Когда люди устали от слишком частых поездок и спрятали карточки с автомашинами, Вики принялась вырывать рисунки автомобилей из журналов и книг и предъявляла их в качестве “билетов на проезд”.
Просматривая фильмы о Вики, Роберт и Беатрис Гарднер пришли к мысли: а что если шимпанзе обучить языку жестов, которым пользуются глухонемые? Так и возник “проект Уошо”. Как бывает почти со всякой интересной идеей, она приходила в головы исследователей и раньше: в Советском Союзе, в Харьковском зоопарке, еще на рубеже 30-40-х годов Л.И. Уланова пыталась обучать макака-резуса жестам, обозначающим различные виды пищи. Война оборвала этот опыт.
А вот Уошо вскоре, и правда, “заговорила”. Сперва это были отдельные знаки, а потом и сочетания. Она выучилась строить, например, такие высказывания: “достать одеяло”, “еще фрукт”. Затем подоспели результаты опытов, которые проводил психолог Дэвид Примак. Он взял за основу языка не жесты, а систему фишек, размещенных на магнитной доске. Тренировка начиналась с того, что обезьяну обучали прикреплять на доску символ, за что она получала обозначенное символом лакомство. Постепенно шимпанзе Сара научилась составлять фразы типа: “Если Сара взять яблоко, то Мэри дать Сара банан”. Похоже было, что она понимала замещающую природу символа, когда описывала жетон “яблоко”, отличавшийся от реального яблока цветом и формой, знаками-прилагательными “красный” и “круглый”. Выбрав момент, Сара похищала фишки и в одиночестве проигрывала варианты предложений. Было над чем задуматься.
Под впечатлением этих работ Дуэйн Румбо и его сотрудники начали диалог с шимпанзе через посредство компьютера (Кстати, последняя газетная сенсация на эту тему месячной давности инициирована его супругой – Сью Сэвидж-Румбо). В комнате обезьяны помещалась панель ЭВМ, на клавишах которой были нарисованы лексиграммы (значки-обозначения действий и разных видов пищи или других поощрений, от щекотки до кинофильма – обезьяны, совсем как люди, приходят от того и другого в одинаковый восторг). Компьютер запоминал каждое предложение шимпанзе (например, последовательное нажатие клавиш: “пожалуйста”, “машина”, “показать”, “кино”) и “выполнял” просьбу, лишь когда она соответствовала “грамматике” – узаконенному порядку нажатий. Результаты оказались поразительными. Молодым шимпанзе Шерману и Остину удалось даже провести диалог через компьютер. Шерман, в комнате которого лежали инструменты, получал сигнал от Остина, находившегося в соседней комнате (у него не было инструментов, зато был закрытый ящик с пищей), передать определенный инструмент. Остин открывал с помощью этого инструмента ящик и делился добычей со своим собеседником. Румбо считал, что компьютер, который позволяет точно вычислить долю “речи” в хаосе случайных нажатий, объективнее, чем киносъемка жестового разговора обезьяны с человеком.
Надо сказать, что волна “языковых” проектов вызвала скептическую реакцию со стороны многих лингвистов и психологов. Объяснить это можно тем, что большинство из них в ту пору под влиянием теории Ноэма Хомского считали, что языковая способность человека задана в его генах и, подобно физиологическому органу, вырастает постепенно, по записанной в генах программе.
Некоторые критики обрушили на зоопсихологов убийственные аргументы: сравнивали обезьяний язык с человеческим, литературным – результатом тысячелетий исторического развития. Другие подошли к этому вопросу осторожнее. Например, Эрик Леннеберг предложил доказать на примере, что шимпанзе могут разговаривать. То, что обезьяны “называют” отдельные предметы, еще не о чем не говорит, полагал Леннеберг. Обычный условный рефлекс, на который способны и собаки, и голуби. Вот если скажем, обезьяна правильно расшифрует команду “Положить сумку и тарелку в ведро” (то есть поймет, что союз “и” относится к сумке и тарелке, а предлог “в” – к ведру), то можно говорить о каких-то зачатках языковых способностей.
Это, однако была единственная практическая рекомендация со стороны критиков. Неконструктивный скептицизм лингвистов породил ответную реакцию зоопсихологов. Так, профессор Колумбийского университета Герберт Террейс бросил вызов теории “врожденной языковой компетенции” Ноэма Хомского. В 1973 г. Террейс начал проект, героем которого стал шимпанзе с ироническим именем Ним Шимпский. “Я выбрал это имя, – писал Террейс, – в честь известного лингвиста, отстаивающего тезис о врожденности человеческого языка. Конечно, в глубине души я осознавал эффект, который мог возникнуть, случись Ниму в действительности создавать предложения”. Полный оптимистических надежд, Террейс поместил обезьяну в лабораторию и начал интенсивные занятия с помощью глухонемых тренеров.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу