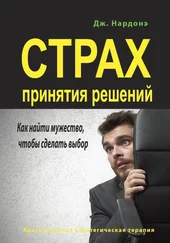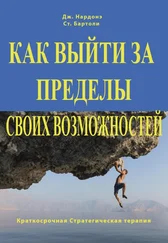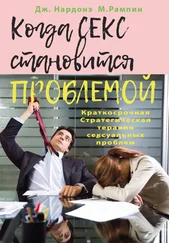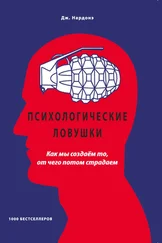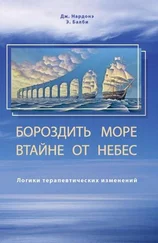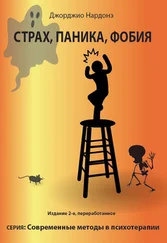Современный человек буквально впадает в кризис перед лицом всего неразрешимого именно в силу своих способностей к рассуждению и широте приобретенных знаний, поскольку это тревожно, непосильно и неконтролируемо. В последние десятилетия мы наблюдаем возрождение религиозных интегрализмов; всё легче встретить людей, которые усмирили свои сомнения, отдаваясь вере и ее самым строгим требованиям.
Однако для современного Запада такой побег души невообразим: многие не готовы отказаться от «свободы воли» в пользу фундаменталистского культа, как бы сильно ни верили и, следовательно, вера их не защищает от мучительных сомнений; наоборот, именно эта внутренняя драма может заставить их чувствовать себя виноватыми перед верой. Ко всему этому добавляется современная парадоксальная информационная ловушка: чем больше мы знаем, тем более четкой становится реальность; чем больше у нас вариантов, тем больше сомнений в правильности выбора.
Доступ к постоянно растущему количеству информации благодаря современным технологиям создаёт человеку сложность, с которой часто невозможно справиться. Логикам хорошо известно, что избыток информации обнуляет знания, и, живя в мире, где для того, чтобы совершить простую покупку любого продукта необходимо покорить огромный поток информации, представьте, насколько этот «парадокс избытка» может усложнить нашу жизнь перед лицом действительно важных решений.
Шерлок Холмс Сэра Артура Конан Дойла (Дойл, 1995) провозглашает: «Идеальный мыслитель – это тот, кто на основе огромного количества информации умеет принять во внимание только ту, что действительно полезна». Однако для этого недостаточно быть умным или культурным: действительно необходимо длительное упражнение в умении дискриминировать информацию, но это специфическая тема для профессионалов в области решения проблем, а не для большинства, которое не относится к этому сообществу.
Представим, например, что у нас появилось сомнение в своем состоянии здоровья. На основе этого вопроса мы начнем собирать информацию, касающуюся всех показателей риска возможных заболеваний, и вскоре мы поймем, что мы вошли в лабиринт возможностей, которые вместо того, чтобы успокаивать нас, увеличивают наши сомнения и страхи. Если мы продолжим в том же духе, у нас возникнет потребность в постоянных медицинских обследованиях, но мы обнаружим, что никакой медицинский анализ не может гарантировать нам уверенность в том, что мы не заболеем, несмотря на хорошее состояние здоровья. И парадоксальным образом мы увеличиваем наши сомнения и страхи, пока они не превратятся в навязчивую идею: настоящую ипохондрическую патологию с психосоматическими симптомами, которая со временем из-за физиологических изменений, связанных с наличием высокого уровня тревожности, вызывает реальное повреждение органов.
Отталкиваясь от сомнений, движимые наилучшими намерениями, в результате разумного поиска обнадеживающих ответов приходят к наихудшему результату, а именно возникновению патологии.
Неразрешимые дилеммы современного человека являются результатом попытки контролировать неконтролируемое с помощью силы знания. Но, как мы показали, само знание может стать источником неведения и страданий.
Когда в нашем уме возникает неразрешимое предположение, которое вызывает вопросы, на которые невозможно дать правильный и окончательный ответ с помощью рациональной логики, следует вспомнить указание Канта (1788/1974): «Прежде чем пытаться найти ответы, необходимо оценить правильность постановки вопроса». Следовательно, либо мы идем по канату амбивалентностей, противоречий и парадоксов, либо, сталкиваясь с такими дилеммами, мы должны блокировать попытки давать ответы, поскольку в этом случае логика поиска ответов непригодна. Мы рискуем запутаться в бесконечной игре: каждая попытка найти ответ вместо того, чтобы рассеять, будет подпитывать новые сомнения. Эта извращенная динамика является источником постоянной неуверенности и глубоких страданий, и, если ее не заблокировать, она может перерасти в настоящую психическую патологию.
Суммируя, мы никогда не должны забывать последнее суждение Логико-философского трактата Витгенштейна (1922 г.): «О чём нельзя говорить, о том лучше молчать».
Когитоцентризм: неуверенность в поисках уверенности
Мысль, ее достоинства и недостатки составляют основной объект наблюдения и изучения не только философии, но и психологии. Однако, если философия сосредотачивается на критериях нашего образа мышления, рассуждения, аргументирования, объяснения, то есть динамик, касающихся отношений между процессом мышления и мыслью, в психологии все сложнее. В действительности психологические науки, помимо мышления, занимаются нашими действиями и чувствами. Это означает, что, в то время как для философии созерцание и рассуждение представляют собой две основные структуры, психология же должна исследовать восприятие, активацию психофизиологических механизмов, эмоциональные реакции, когнитивные процессы, память, речь, коммуникацию и, наконец, сложности отношений с самими собой, другими и миром на уровне мышления и действий. Однако, поскольку психология является молодой наукой и находится под сильным влиянием, с одной стороны, философско-гуманистических дисциплин, а с другой – биологических и медицинских дисциплин, в ней есть как области углубленного изучения уже известных идей, так и совершенно новые области.
Читать дальше
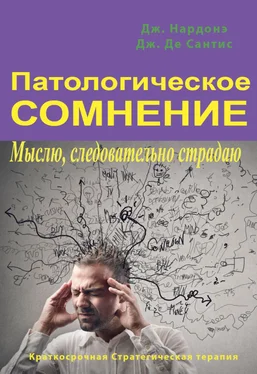
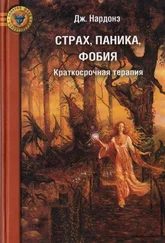


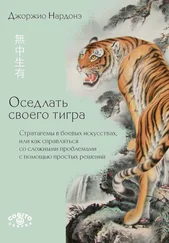
![Джорджио Нардонэ - Психологические ловушки. Как мы создаём то, от чего потом страдаем [litres]](/books/398166/dzhordzhio-nardone-psihologicheskie-lovushki-kak-my-s-thumb.webp)