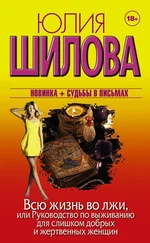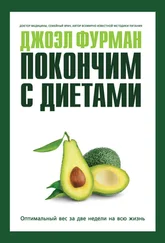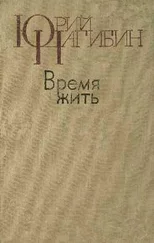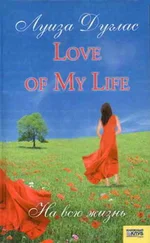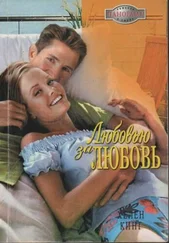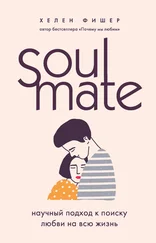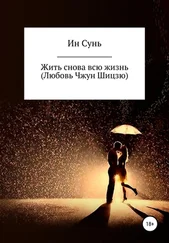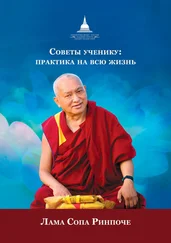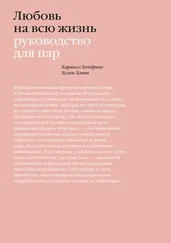Мы – дети природы, и у нас в генах закодирована эволюционная программа нашего вида. Все мы начинаем жизнь в состоянии расслабленного, радостного блаженства, в ощущении связи со всем и всеми. При рождении все наше существо охватывает порыв сохранить это чувство единения, не терять связанность. Если те, кто о нас заботится, чутки к нашим желаниям и потребностям, а также готовы и способны дать тепло, безопасность и поддержку, наши живость и благополучие сохраняются. Мы продолжаем ощущать связь и радуемся полноте жизни.
Однако так получается не всегда. Даже в самых благоприятных обстоятельствах родители (или другие значимые взрослые) не в состоянии сохранить ту идиллию, которой мы были окружены, ведь в утробе матери мы все получали сразу и автоматически, в атмосфере полной безопасности и непрерывности. Даже лучшие родители не могут ежеминутно быть рядом, не всегда точно понимают, что нам нужно, и не все просьбы могут удовлетворить. Еще важнее то, что большинству мешают проблемы, возникшие в период, когда они сами были детьми. Их давно обуревают собственные сложности, поэтому они не желают или не могут дать своим младенцам то, что те хотят. Родители устают, сердятся, подавлены, заняты, больны, отвлекаются, боятся и грустят и поэтому не могут поддерживать в нас чувство безопасности и комфорта.
Каждая неудовлетворенная потребность порождает ощущение тревоги. Младенец мало что понимает и не имеет представления, как утолить боль и вернуть чувство защищенности. Отчаянно желая выжить, он прибегает к примитивным, слабым механизмам преодоления. В зависимости от темперамента и от характера пренебрежения или вмешательства со стороны родителей это может принимать самые разные формы. Кто-то постоянно плачет, чтобы привлечь внимание, кто-то отстраняется от прикосновений и внимания со стороны пренебрегающих им родителей, отрицая само существование потребностей. Мы делаем все, что в наших силах, но мир уже кажется опасным местом, где любовь выдается порциями.
Углубление разрыва
Все мы – и наши родители не исключение – были воспитаны несовершенно. Если упрощать, можно выделить два вида проблем: навязчивость и пренебрежение. Родители либо излишне нами занимаются – указывают, что делать, думать и чувствовать, – либо недостаточно и отсутствуют физически или эмоционально. В ответ на это ребенок становится тревожным и уходит в себя, теряет способность к сопереживанию и тоскует по радостной связи. Наши порывы от младенчества до юности дают родителям массу возможностей поддерживать или разрывать эту важную связь.
В детстве происходит и социализация: благодаря родителям и другим окружающим людям человек меняется так, чтобы вписаться в социум. Нам объясняют, что надо делать, говорить и как себя вести. Мы берем пример с друзей, учителей, героев телепередач, принимаем за образец модель близких отношений родителей. Дети наблюдательны и гибки, поэтому они быстро понимают, как получить любовь и признание. Социализация при этом подтачивает чувство безопасности и связи, так как мы неизбежно осознаем, что определенные аспекты нашей личности не приветствуются. Это может касаться внешнего вида и манеры говорить, интересов, способностей, привлекательности для противоположного пола. Ради выживания приходится подавлять то, что общество считает неприемлемым или непривлекательным, отрекаться от этого. Мы все реже чувствуем себя в порядке, в конце концов оказываемся лишь тенью своего подлинного «я» и отрываемся от социального контекста.
Если вам нужны доказательства этого процесса демонтажа личности, вспомните кого-нибудь из знакомых детей. В два-три года большинство из них полны жизненной энергии, уникальны и эксцентричны, хотя даже в таком возрасте иногда проявляются признаки апатии, гнева или страха из-за уходящего младенчества. В восемь-десять лет признаки подавления личности становятся более очевидными и многочисленными. Среди десятилетних редко встретишь тех, кто безошибочно, неприкрыто остается собой. На пике подросткового возраста ошибки воспитания и влияние общества у детей, которым не хватает любви, выливаются в бунт, депрессию и низкую самооценку.
Мы выживаем и процветаем в той степени, в которой родители и общество способны поддержать формирование и укрепление наших врожденных порывов, и в той степени, в которой нам позволено быть собой. О большинстве заботятся достаточно хорошо, и они все делают правильно. Некоторым людям везет меньше, и в жизни их ждут разные затруднения из-за глубоких обид. Так или иначе, от детских ран в той или иной степени страдает каждый. Мы изо всех сил пытаемся справиться с миром и с отношениями, используем набор слабых механизмов защиты, рожденных в боли нашего детства, а также элементы истинной природы, которые спрятали в глубинах бессознательного. Мы кажемся взрослыми, ходим на работу и выполняем свои обязанности, но на самом деле внутри у нас глубокая дыра: мы отчаянно пытаемся наслаждаться всей полнотой жизни и при этом неосознанно надеемся вернуть первоначальные чувства единения и радостной живости, сопровождавшие нас при появлении на свет.
Читать дальше
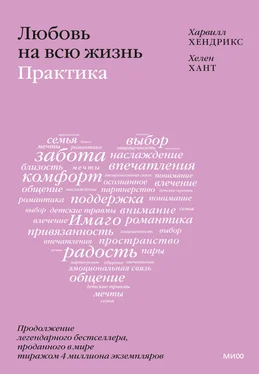
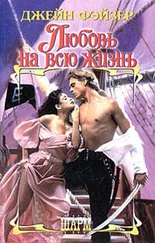
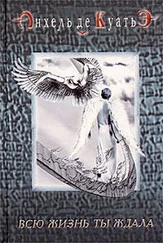
![Шон Янг - Привычки на всю жизнь [Научный подход к формированию устойчивых привычек]](/books/23939/shon-yang-privychki-na-vsyu-zhizn-nauchnyj-podhod-k-fo-thumb.webp)