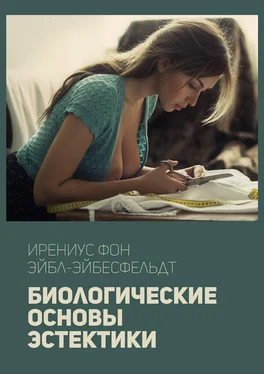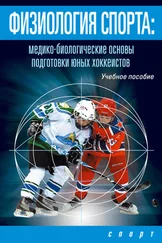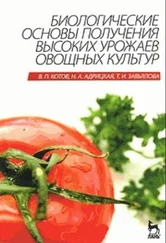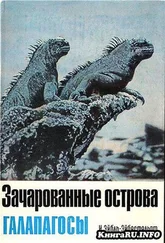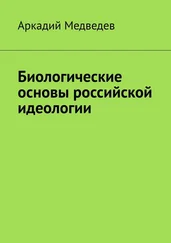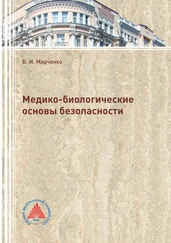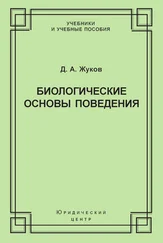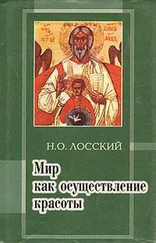Культуроспецифичные предрасположенности: особенности стиля
Из всего сказанного выше видно, что проявления тенденциозности нашего восприятия подразделяются на два уровня. Первый уровень — самый основной и общий. Здесь мы находим стремление отыскивать в окружающем мире порядок, правильность и определенные структуры.
Все это свойственно не только нам, но и другим млекопитающим, а также птицам. Второй уровень образуют тенденции видоспецифичные
— сугубо человеческие. Некоторые из них явно укоренены в нашей родословной. Другие хотя и не просматриваются у предков, но встречаются у самых разных народов: за ними стоят всеобщие врожденные склонности, такие как покровительственное отношение к детям и милосердие к матерям. На таких склонностях зиждутся свойственные этим опекаемым группам формы защитительного поведения.
Теперь я хотел бы остановиться на последнем, третьем уровне, образуемом тенденциями культуроспецифичными, т. е. свойственными определенной культуре. Они усваиваются в раннем детстве, а затем используются всеми носителями данной культуры для возбуждения определенных эмоций. Эти эмоции призваны служить укреплению внутригрупповых связей, отграничению данной группы от прочих, управлению поступками отдельных людей, утверждению общественных норм и ценностей. Здесь мне нужно будет вкратце рассмотреть стиль как средство кодирования культуроспецифичных «посланий» и тем самым — передачи «духа времени» или определенного миросозерцания. Позволю себе начать с некоторых хорошо известных примеров.
В истории Европы художественный стиль, никогда не признававший ни государственных, ни этнических границ, был и остается мощным фактором всеевропейского единения. Эпохальные стили (романский, готический и т. д.) объединяли всю Европу — от Атлантики на западе до самой России на востоке и от южной Скандинавии на севере до Средиземного моря на юге. При всем многообразии европейских культур в каждую из эпох в архитектуре, музыке и живописи проявлялось глубокое стилистическое единство, которое, несомненно, способствовало общению. Стиль в искусстве продолжает играть важную роль в укреплении внутри — и межкультурных связей. Культурные ценности и нормы нередко передаются потомкам через посредство эстетических носителей. Хороший тому пример — исторические картины. Портреты великих мужей вселяют в зрителей благоговейный трепет и приглашают разделить их добродетельные и доблестные идеалы. Тем самым исторические события могут получать оправдание, и это может прокладывать дорогу к подобным же событиям в будущем. У зрителя формируются и запечатлеваются политические и религиозные взгляды. Искусство в данном случае выступает как средство внушения тех или иных воззрений.
В свете сказанного идеализированное изображение человеческого облика весьма примечательно и очень интересно. Изображаются и утверждаются такие добродетели, как храбрость, честность, великодушие и милосердие. Кроме того, преподносятся образцы преданности группе, и нередко эта преданность вступает в противоречие с личными интересами. Рассказ об авраамовой жертве можно понимать как иносказательное провозглашение новой добродетели, которая требует, чтобы интересам группы (в лице правителя) отдавалось предпочтение перед интересамиотдельного человека и его семьи. Внушаемость, готовность к усвоению взглядов и к приятию групповых ценностей присущи человеку в очень высокой степени. Это они вымостили путь групповому отбору [54].
На других уровнях стиль используют иначе. С его помощью народы, живущие в Европе, подчеркивают различия между собою. То же и в пределах отдельных стран: стилем оттеняют этнические и областные особенности. Это показала работа Вобста [55], изучавшего одежду как знак этнической принадлежности внутри Югославии. По этим причинам на искусство нередко смотрели как на орудие политики. Доля истины в таком взгляде, конечно, есть, но это ничуть не умаляет художественной ценности Ангкор-Вата или Страсбургского собора. Современные стилистические поветрия в фасонах одежды и в молодежной культуре затрагивают весь мир: основа такой глобализации — бизнес. Художественный уровень поп-арта, рок-музыки и тому подобного обыкновенно снижен, а язык упрощен, чтобы нравиться многим, а не только искушенной элите или носителям какой-то одной определенной культуры.
Любопытно отметить, что стиль обслуживает и идеологические нужды — он, например, способствует сплочению. Такое бывает как в обществах охотников и собирателей, так и в родоплеменных обществах. Висснер [56], работая в Калахари среди бушменов !кунг, Г/уи и !ко, изучал связи между стилистическими особенностями местных поделок и различными социальными взаимодействиями. Он нашел, что стиль проявляется на разных уровнях и служит множеству целей. На групповом уровне, например, отдельные стилистические особенности стрел служат знаками принадлежности к той или иной языковой группе, «... помогают преодолевать отчуждение, которое могло бы возникнуть в результате расселения, и сплачивают народность воедино, что позволяет сообща противостоять опасностям». По таким знакам бушмены могут с первого же взгляда определить, откуда происходит залетевшая к ним стрела — из своей собственной группы или из чужой. Это в свою очередь дает возможность узнать, каких ценностей и обычаев придерживается изготовитель стрелы — тех же, что они сами, или иных. В тех случаях, когда столкнувшиеся группы друг другу известны, стилистические различия напоминают о том, что обычаи и ценности у чужаков другие; в результате взаимодействие между группами становится более предсказуемым и потому протекает спокойнее. Напротив, стрелы, прилетающие из чуждых и неведомых групп, вызывают у бушменов !кунг непроизвольные и бурные проявления страха, ужаса и беспокойства. В завязывающихся после таких находок беседах всплывают жуткие истории об убийствах или происходивших в прошлом загадочных событиях. Знаки опознавательного характера были обнаружены и на других изделиях (в частности, на одежде и украше -ниях), а также в раскраске тела.
Читать дальше