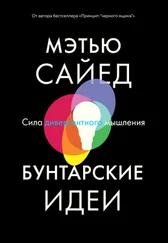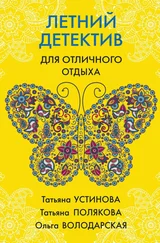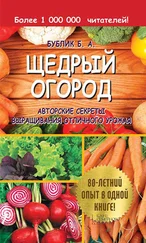«Я собираюсь показать, – писал Гальтон, – что естественные возможности человека определяются наследственностью точно с такими же ограничениями, как при формировании внешней формы и физических признаков во всем органическом мире… Я отвергаю гипотезу… что дети рождаются абсолютно одинаковыми, и единственными факторами, создающими различия… служат постоянные усилия и нравственное воздействие».
Идея, что успех или неудачу определяет природный талант, сегодня настолько влиятельна, что принимается без возражений. Она кажется неоспоримой. Наблюдая, как Роджер Федерер фирменным ударом справа выигрывает матч, когда гроссмейстер дает сеанс одновременной игры вслепую на двадцати досках или Тайгер Вудс отправляет мяч в лунку с расстояния 320 метров, мы неизменно приходим к выводу, что они обладают особым даром, отсутствующим у остальных.
Эти навыки настолько необычны и до такой степени не связаны с обыденной жизнью и повседневным опытом, что даже мысль о достижении сравнимых результатов, будь у нас те же возможности, кажется просто нелепой.
И даже метафоры, которые мы используем в отношении добившихся успеха, поощряют такого рода взгляд на вещи. Например, о Федерере говорили, что «теннис у него в генах», а о Тайгере Вудсе – что «он рожден для гольфа». Сами выдающиеся личности тоже так думают. Диего Марадона однажды заявил, что его ноги «с рождения умели играть в футбол».
Но не ошибаемся ли мы в своем восприятии таланта?
Что такое талант?
В 1991 году Андерс Эрикссон, психолог из Университета штата Флорида, и двое его коллег провели исследование выдающихся достижений, самое дорогостоящее из когда-либо выполненных.
Объекты их исследования – скрипачи из знаменитой Берлинской высшей школы музыки – были разделены на три группы. К первой группе отнесли выдающихся студентов: мальчиков и девочек, которые могли стать всемирно известными солистами, войти в элиту музыкального мира. Этих детей назвали бы необыкновенно талантливыми – им повезло родиться с особыми музыкальными генами.
Студенты второй группы обладали выдающимися способностями, но их не причисляли к исполнительской элите. Считалось, что они будут играть в лучших оркестрах мира, но не как звездные солисты. К последней группе относились наименее способные студенты: из них могли выйти преподаватели музыки, и требования к ним были наименее жесткими.
Уровень способностей трех групп оценивался на основе мнения профессоров и был подкреплен объективными показателями, такими как результаты участия в конкурсах.
После ряда сложных интервью Эрикссон обнаружил, что биографические характеристики всех групп были сходными – никаких систематических различий не наблюдалось. Все начали заниматься музыкой в восьмилетнем возрасте, одновременно с поступлением в обычную школу. Средний возраст, в котором студенты решили стать музыкантами, тоже оказался одинаковым – приблизительно пятнадцать лет. У каждого в среднем было 4,1 преподавателя музыки, а среднее количество музыкальных инструментов, на которых они учились, равнялось 1,8.
Но между группами выявилось одно различие, неожиданное и существенное. Оно буквально поразило Эрикссона и его коллег. Это количество часов, посвященных серьезным занятиям.
К двадцати годам лучшие скрипачи упражнялись в среднем 20 тысяч часов, на две с лишним тысячи больше, чем просто хорошие скрипачи, и на шесть с лишним тысяч часов больше, чем студенты, собиравшиеся стать преподавателями музыки . Такая разница не только статистически значима, но и удивительна.
Однако и это еще не все. Эрикссон обнаружил, что в этой закономерности нет исключений: никто не попал в элитную группу без упорного труда, а все, кто много занимался, преуспели. Целенаправленные занятия были единственным фактором, отделявшим лучших от худших.
Эрикссон с коллегами были поражены полученными результатами и поняли, что они означают коренное изменение представлений о мастерстве – в конечном счете все определяет практика, а не талант. «Мы отрицаем, что эти различия [в уровне мастерства] неизменны, то есть определяются природным талантом, – писали исследователи. – Наоборот, мы утверждаем, что различия между выдающимися мастерами и обычными взрослыми людьми отражают целенаправленные усилия по совершенствованию навыка, прикладывавшиеся на протяжении всей жизни».
Цель первой части этой книги – убедить читателя в правоте Эрикссона: талант – это не то, что вы думаете, и вы можете достичь совершенства во многих занятиях, которые кажутся вам необыкновенно далекими от ваших возможностей. Но это не будет стандартной тренировкой позитивного мышления. Основу моих аргументов составят новейшие открытия в области когнитивной нейропсихологии, свидетельствующие о том, как можно изменить тело и разум путем специальных тренировок.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
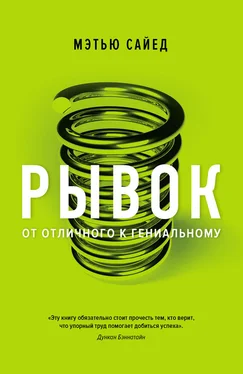
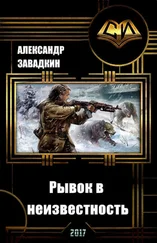





![Мэтью Сайед - От лучшего к величайшему [Как работают принципы успеха в спорте для достижения жизненных целей]](/books/438785/metyu-sajed-ot-luchshego-k-velichajshemu-kak-rabotayut-thumb.webp)