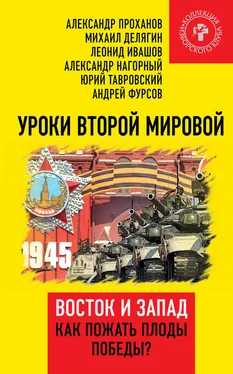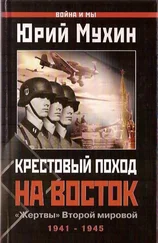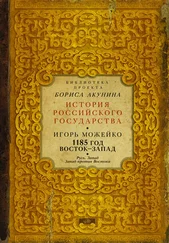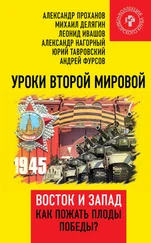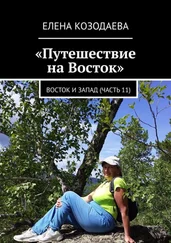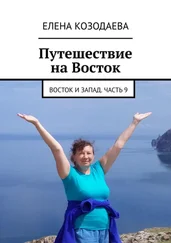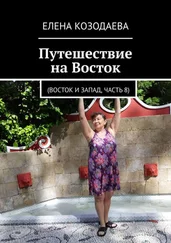Наконец, последний четвертый период: системный кризис открыто выступает на историческую сцену, превращаясь в решающий фактор, то ли окончательной деградации, то ли неожиданного скачка – через революцию – вверх, в Неизвестность. Главный принцип: «или-или».
Исчезают окончательно остатки реального элитарного мышления и элитарного сознания. Власть переходит к антиэлитам, которые стремятся только к «личному обогащению». Мелкобуржуазность, всеохватывающий партикуляризм воцаряется в общественном сознании. Происходит всеобщая нравственная деградация: «можно всё, лишь бы не попасться». Тотальная деградация государства проявляется, прежде всего, в беспрецедентных формах коррупции и воровства. Население окончательно и бесповоротно превращается в народ-быдло.
…Это не линейный и не заранее предопределенный процесс. В течение четырехсот лет появляются исторические шансы. Некоторые – например, китайцы, римляне и византийцы, – ими воспользовались. Другие – нет. В основном из-за низкосортности вождей.
К концу 1916 года в Российской империи резко обострился и забурлил весь, копившийся уже долго, сложнейший клубок противоречий: социально-экономических, классовых, политических, идеологических, этнонациональных, внутрирегиональных.
Общенациональный системный кризис неуклонно и драматически приближался к своей финальной фазе.
Еще вчера, казалось бы, гордый имперский народ неожиданно скукожился, а потом парадоксальным образом куда-то взял и выветрился. Как писал В. Розанов в «Апокалипсисе нашего времени»: «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три… Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. И собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая “Великого переселения народов”. Там была – эпоха, “два или три века”. Здесь – три дня, кажется даже два. Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом – буквально ничего».
С. Трубецкой приводит поразительный пример. Осенью 1916 года резко усилилось дезертирство из армии. Немногочисленные представители патриотической интеллигенции приходили на вокзалы и, пытаясь как-то воздействовать на толпы прибывающих дезертиров, взывали: «Вы же русские!», «Вы должны защитить русский народ!», «Русский народ надеется на вас!»
А вот типичные ответы, которые приходилось тогда выслушивать этим интеллигентам-идеалистам: «Я не русский, а саратовский!», «Я не русский, а казак!», «Я не русский, а вятич!», «Ты – русский? Вот и иди на фронт, кормить вшей!»
Всего несколько лет открытого системного кризиса, вкупе с войной, привели к победе регионального, провинциального самосознания над имперским духом, самоощущением большого народа. И это была не сиюминутная эмоциональность, а страшная, глубинная, всё более разворачивающаяся в пространстве и во времени социальная тенденция. В 1919 году, в самый тяжелый год гражданской войны, страна фактически раскололась на 120 частей.
Вообще, надо сказать, что гражданская война – наилучшее средство вытравливания осознания национальной и государственной идентичности.
В 20-е годы, на фоне последствий страшной гражданской войны, массового голода 1921–1922 годов, резких колебаний во внутренней политике, деградация и фрагментация социума продолжалась. Улетучиванию правового сознания, резкому ослаблению нравственности, отчуждению социума от какого-то непонятного коммунистического государства способствовали многочисленные ультралевые эксперименты в культурной, образовательной и социальной сферах. Ожесточенная внутриполитическая борьба приводила к тому, что еще вчерашние революционные кумиры, представители «ленинской гвардии», вдруг в одночасье превращались во «врагов партии».
В 1921 году, в условиях действительного экономического одичания, в Советской России была провозглашена «новая экономическая политика». Буквально за несколько лет в стране возродился класс, с которым, казалось, беспощадно боролись на протяжении всей гражданской войны, и который, казалось, был уже уничтожен.
И он не только быстро возродился, но и вновь быстро разбогател, особенно при поддержке соответствующих партийных и силовых кураторов.
«Крыша», она и тогда была «крышей». В октябре 1923 года Дзержинский в своем письме к Сталину выделяет основные методы воздействия нэпманов на высокопоставленных представителей советской власти: «подкуп и развращение». Хотя понятно, что подкупить и развратить можно только того, кто хочет быть подкупленным и развращенным. Так стала формироваться коммунистическая коррупционная система.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу