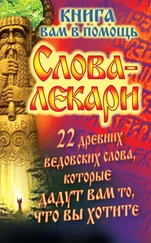Итак, я была очень возбуждена, когда пришла на концерт Армстронга, тем более что организаторы обещали джем-сейшн.
Армстронгу предстояло импровизировать на трубе, создать целое музыкальное произведение, в котором каждая нота, важная сама по себе, сыграет свою роль во всем музыкальном вечере в целом. Я не разочаровалась, атмосфера накалилась очень быстро. Создавалась прекрасная композиция. Нагромождение и аркбутаны джазовых инструментов поддерживали трубу Армстронга, создавали надлежащее пространство, чтобы композиция поднималась, опускалась и затем вновь взлетала вверх. Звуки, которые издавали инструменты, порой ударялись друг о друга, смешивались, подталкивали друг друга, создавая музыкальный фундамент, своего рода матрицу, из которой струилась точная нота, та единственная, следование звуковой траектории которой почти вызывало боль, столь незаменимы и строги были ее равновесие и продолжительность; она сводила с ума тех, кто следовал за ней.
Сердце мое забилось очень быстро и очень громко. Забилось так, что стало важнее музыки. Оно трясло мою грудную клетку, раздувалось, давя на легкие, в которые воздух уже не проникал. И в панике, что я умру там от этих спазмов, этого трепетания среди этих криков толпы, я убежала. Я выскочила на улицу как сумасшедшая. Была прекрасная зимняя ночь, холодная, люди прятались в своих домах, в тепле. Я бежала, а звук моего бега отдавался топотом в трубах магистралей, проспектов и улочек. «Я умираю, я умираю, я умираю».
Сердце отбивало темп быстро, сильно, отчаянно. Я помню цветущую камелию, ослепительную, с полностью распустившимися лепестками в бетонной вазе на углу какой-то улицы, непосредственно перед тем как я оказалась в туннеле у медицинского факультета. В моей памяти осталась красота этих густых лакированных цветов!
Я бежала, цветы уже остались далеко позади, и все же сердцевина одного из них, которую я видела лишь долю секунды, оставалось со мной, сопровождала мой галоп. Это впечатление было настолько спонтанным, насколько я была взволнованна, и настолько целостным, насколько я рвалась на части. Туннель был безопасен благодаря освещению, благодаря тому, что использовался множеством автомобилей, проезжающим по нему. Они ехали легко, пешеходы быстро двигались по тротуарам. В конце туннеля кокетливо блестела освещенная вывеска. Но ничто не могло успокоить мое сердце, и я продолжала бежать.
Добравшись до дома, вместо того чтобы сесть в лифт, я быстро взбежала по лестнице до пятого этажа, и только там перед дверью, отдав себе отчет, какую нагрузку я выдержала, я сказала себе: «Если бы у меня было больное сердце, я умерла бы, не сделав и десятой доли того, что сделала». Это рассуждение не успокоило меня. Я вошла в комнату и рухнула на кровать, чтобы унять одышку. Я была одна, с закрытыми глазами, ничто вокруг не имело значения, только мое сердце, которое колотилось и прыгало: «Я умру, я сердечница». А тревога, с которой я тогда встретилась впервые, полностью завладела мной, покрыла меня ледяным потом, охватила мои мышцы гротескной тряской, она, подлая, смеялась надо мной. Я позвала мать, которая спала в соседней комнате. Один раз, два. Уже не помню, сколько раз я ее звала, все громче и громче: «Мама, мама, мама!». Она вошла в мою комнату, неряшливо одетая, с отекшим от сна лицом. Ее шиньон распустился, растрепанные каштановые волосы спадали на плечи длинными зигзагообразными прядями. Я думала, что зрелище, которое она увидит, произведет взрыв, вызовет ужас в ее зеленых глазах, что она утонет в моем собственном страхе и составит мне там компанию: ее дочь в агонии, ее дочь умирает – в прямом смысле этого слова. Вместо всего этого она поправила свою одежду и прическу. Сочувственно посмотрела на меня, села на кровать, взяла мою руку в свою и так и осталась. У нее был такой вид, как тогда, когда она посещала кладбище, печально умиленная, удивительно удовлетворенная. «Это просто тревога, чепуха, не пугайся, ничего страшного, это нервное».
Мне не нравилось ее спокойствие, ее убежденность, ее смирение. Как могло быть чепухой то, что переживала я? Как могла быть чепухой обрушившаяся на меня волна липкой ядовитой жидкости, набитая жалами ядовитых змей, какими-то остриями, разлагающейся материей? Эта «чепуха» была, наоборот, чем-то очень существенным, я была уверена в этом, и, видя, что она относится к этому, как к мертвым на кладбище, я еще больше встревожилась. Я задыхалась. Воздух не проникал более в мои легкие, то немногое, что мне удавалось вдохнуть, издавало пронзительный, смешной звук.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу