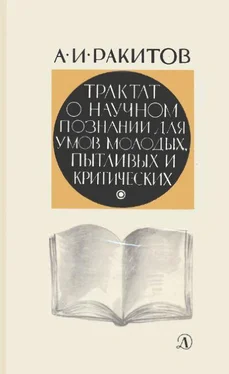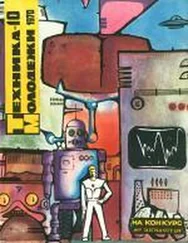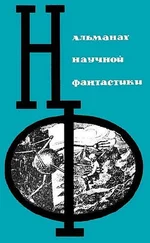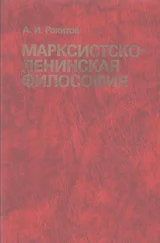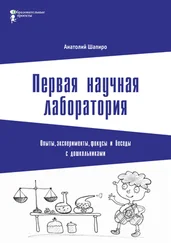Сорок — тридцать тысяч лет назад первобытным людям были известны повадки животных и рыб, виды съедобных растений. Они умели добывать и сохранять огонь; знали, как хранить съестные припасы; обладали некоторыми навыками врачевания; знали, как составлять краски для наскальных рисунков; умели ориентироваться на местности и располагали познаниями в области коллективной трудовой деятельности. Но первое, что бросается в глаза, — это то, что все их знания были непосредственно полезны, служили удовлетворению прямых физиологических потребностей в пище, одежде и жилье. Эти знания и навыки непосредственно и прямо использовались в повседневной трудовой и бытовой деятельности. Они были, говоря словами Маркса, непосредственно вплетены в трудовую деятельность, почти сливаясь с ней. Лишь спустя многие тысячелетия, когда труд, благодаря созданию более совершенных орудий труда, стал производительнее и у людей могла освободиться хотя бы малая толика времени от непосредственных забот о пропитании и безопасности своей жизни, они смогли создать новые виды знания, выходящие за рамки прямых повседневных проблем и потребностей.

Лишь после того, как около пяти тысяч лет назад была изобретена письменность, в развитии знаний произошла первая великая революция. Письменность оказалась средством хранения и накопления, аккумулирования знания. С ее помощью стало возможным «запоминать» и передавать последующим поколениям все ценное, что было открыто и понято до них. Отныне каждое новое поколение не просто усваивало опыт предков, но получило возможность, развивая его, пополнять, сохранять и передавать дальше закрепленные и выраженные в общедоступной форме знания. И все же эти знания, как бы ни были они важны и полезны, влияли на их повседневную жизнь и трудовую деятельность гораздо слабее, чем влияет на нашу жизнь современная наука.
Человеческие знания всегда развивались под влиянием практической деятельности людей. Однако, как только возникла наука, она сама стала оказывать необычайное по своей силе воздействие на эту деятельность. От первой заостренной палки и грубого каменного зубила, применявшихся на заре человечества, до орудий нашего неандертальского охотника прошло почти два миллиона лет. Понадобилось несколько десятков тысячелетий, чтобы от этих орудий перейти к железному плугу и металлическому мечу. Всего два тысячелетия отделяют римские катапульты от современных артиллерийских орудий и греческие триеры от современных подводных кораблей. Однако под влиянием науки темп прогресса стал еще стремительнее. Первые реактивные самолеты взлетели в воздух в середине сороковых годов нашего века. Не прошло и пятнадцати лет, как была запущена первая ракета, которая вывела на орбиту советский искусственный спутник.
Научное познание мира привело к таким изменениям в нашей жизни, что нет никакой необходимости убеждать кого-нибудь в полезности науки. О науке и ученьях говорят по радио и пишут в газетах. Учитель в школе и профессор в университете рассказывают об основах и новейших достижениях науки. Но очень немногие задумываются над тем, что научное познание имеет свои собственные тайны и закономерности. Это, впрочем, понятно: люди всегда решают задачи в порядке очередности, степени важности и неотложности.

Лишь после того, как были поняты основные законы неорганической природы, развитие живых организмов и общества, люди задумались над тем, каковы же законы и особенности самого научного познания.
Знай мы эти законы так же хорошо, как законы физики, химии или биологии, мы могли бы значительно усовершенствовать и ускорить само научное познание. А это сулит самые необыкновенные и неожиданные перспективы в развитии человечества, обещает избавить его от многих еще существующих трудностей и нерешенных проблем. Однако именно здесь существует много «белых пятен», и тому, кто обладает умом молодым, пытливым и критическим, имеет смысл именно здесь приложить свои таланты и усилия.
Легко сказать: «Изучайте науку!» Но как это сделать? Когда ученые ставят перед собой цель—изучить то или иное явление, они прежде всего пытаются рассмотреть его, так сказать, в «чистом» виде, и хотя этот прием удается осуществить далеко не всегда и не полностью, он очень облегчает и упрощает исследования самых различных предметов и процессов. Не можем ли мы воспользоваться им для того, чтобы изучить саму науку?
Читать дальше