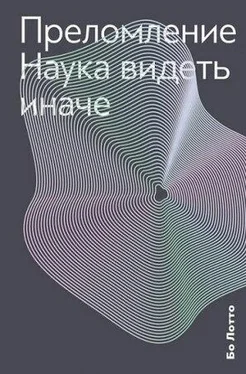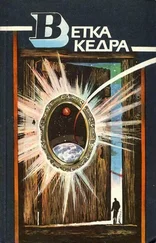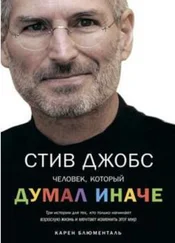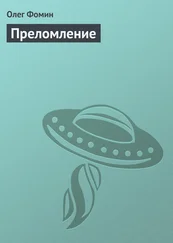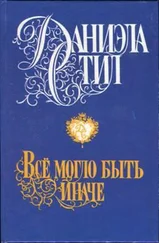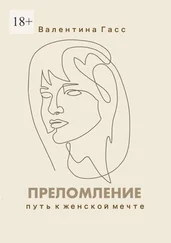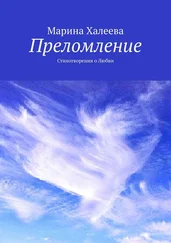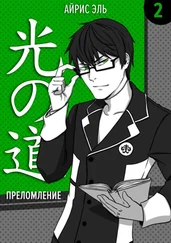Творчество и точность вкупе определяют новаторство — диалектику природы, которая отражается в других двойственных противоречиях, описанных в книге: реальность и восприятие, польза в прошлом и в будущем, определенность и неопределенность, свобода воли и запрограммированность. Видеть одно и знать другое — это и есть на самом деле истина. Природный диалог креатива и точности воплощен в мозге, который, вероятно, можно считать самой способной к новаторству структурой из всех существующих.
Человеческий мозг балансирует между возбуждением и торможением, и это необходимо, поскольку в таком положении он способен реагировать. Если он будет чрезмерно замедляться, раздражители не распределятся должным образом. А если не будет тормозить совсем, может образоваться излишне возбудимая цепь обратной связи, которая спровоцирует приступ эпилепсии. Более широкое использование меняет баланс возбуждения, в результате тормозящие связи должны усилиться для его поддержания (и наоборот). Это позволяет мозгу сохранять состояние готовности в любой ситуации… чтобы отреагировать на изменение в неопределенной обстановке… и именно поэтому он сам подгоняет сложность строения под ситуацию. Мозг приспосабливается к нормальной обстановке (но мы постоянно определяем ее по-новому)… к вечному поиску динамического равновесия. Создается непрерывный и постоянно «скачущий» процесс: то рост, то прекращение, то движение, то остановка. Мозг движется туда-сюда между творчеством и точностью, между увеличением и сокращением размера области поиска. Недавно нейрофизиологи обнаружили две крупные клеточные сети. Одна из них — «стандартная», «свободномыслящая» (она более активна, когда вторая отдыхает). Ее связи широкие и всеобъемлющие. Вторая — более сосредоточенная и точная — склонна активироваться во время целенаправленных действий.
Упростим это до проверенного правила: в экологии новаторства вы можете создать рамки креативности, говоря «да» самым новым идеям. Вспомните Шеврёля и тайну фабрики гобеленов. Если бы тогда король дал ему на решение проблемы только месяц или даже год, тот не смог бы ее решить. Требование эффективности сократило бы его длительные, но необходимые исследования. Но поскольку у Шеврёля был график, позволяющий исключить ложные объяснения (например, о том, что проблема таилась в качестве гобеленов) и найти более неожиданную разгадку, он в конце концов сделал невероятный и исторически важный шаг на пути к пониманию человеческого восприятия.
Мы любим поклоняться гениям, таким как Шеврёль, Стив Джобс и им подобные, однако иногда необходимо говорить «нет». Точность сама по себе неплоха. Говорить «нет», при этом не определяя «физику» этого слова, тоже искусство. Люди, которым известно, как правильно применять это в работе с пытливыми и творческими умами, необходимы, как редакторы. Они устанавливают сроки писателям, помогая им таким образом рассказать свои истории лучшим из возможных способов (именно это Арон Шульман сделал для меня, когда я трудился над данной книгой). В конце концов иногда точность востребована гораздо больше, чем креативность. Представьте, что на вас движется автобус. В этот момент важно стремительно отреагировать. Вы же не захотите задуматься: «Хм, можно ли взглянуть на ситуацию по-другому?» Ответ — да. Но, вероятно, не стоит пытаться. Самое мудрое решение, которое лучше всего принять в этой ситуации, — как можно быстрее уйти с пути автобуса. Так у вас будет больше шансов выжить, а это всегда главное.
Тогда при прочих равных условиях система, расходующая на выполнение задачи меньше энергии (в буквальном смысле или с точки зрения финансов), вытеснит другую систему, потребляющую больше в контексте как биологической эволюции, так и бизнеса или личного развития. Сосредоточиться на повышенной точности — по сути, подход большинства отраслей промышленности.
Даже школы и университеты… те самые места, которые предназначены побуждать людей видеть по-разному на индивидуальном, культурном или социальном уровне… стали инкубаторами точности. Безусловно, в этом есть ирония: «бизнес» явно (и даже юридически) существует для себя, а не для тех людей, которые становятся его человеческим проявлением, и компании в большинстве движутся прямо к этому. И мы, до определенного уровня, это принимаем (за исключением ситуаций, где мы сталкиваемся с лицемерием; мозг очень чувствителен к аутентичности [83] Аутентичность (др. — греч. αὐθεντικός — «подлинный») относится к правильности начал, свойств, взглядов, чувств, намерений; искренности, преданности. Синонимы аутентичности в психологии — конгруэнтность, согласованность информации, передаваемой словами, мимикой, жестами, то есть вербальной и невербальной. Прим. науч. ред.
). Но, безусловно, основная задача учреждений образования — быть теплицами, в которых вырастут великие вопросы : их нельзя «произвести» на конвейере. Я не могу сказать своим аспирантам или научным сотрудникам: «Сделайте, пожалуйста, это открытие до вторника!» Точно так же невозможно определить его денежную ценность (по крайней мере, в ближайшем будущем) и совершенно неверно пытаться до предела развить креативность, наращивая точность. Однако именно так и произошло с творчеством в образовании: оно превратилось в экономическую модель, основанную на соревновании. Очень похоже на морскую болезнь: противоречие ощущений, приводящее к интеллектуальным и человеческим потерям. Невероятно печально, но в 2014 году профессор Имперского колледжа Лондона покончил с собой. Его стали запугивать увольнением, если он не выбьет гранты на большие суммы. Мы не знаем, с какими еще трудностями он сталкивался в жизни, но можно сказать определенно: университеты все больше давят на преподавателей, чтобы добиться своих целей. И их задачи имеют очень скромное отношение к истинным целям образования: обучению, развитию науки и интеллектуальных способностей. Безусловно, в мире должно существовать такое место, где кто-то целенаправленно инициирует дефицит просто потому, что в ближайшей перспективе творчество бесполезно (но не в долгосрочной). Вместо этого создается ощущение, что способ дефицитного расходования зарезервирован за правительством — структурой, наименее связанной с креативностью. При этом работа по модели эффективности бизнеса (даже без финансовой инфраструктуры компании высокого класса) снизит творческие способности, развивавшиеся в университете. В результате работа сдвинется в сторону прикладного исследования, где будет меньше даже фундаментальных открытий, результаты которых можно использовать в долгосрочной перспективе. Что интересно: в соответствии с этой точкой зрения изменение парадигмы случается между университетами и компаниями, в которых все больше творческой работы, — в числе которых Google, Facebook, Apple и т. п.
Читать дальше