Для того чтобы пациент мог понять тот или иной специальный концепт так, как его понимает психотерапевт, ему самому необходимо быть этим самым психотерапевтом (что делает данную ситуацию в некотором смысле даже забавной). Он не знает всего того, что знает психотерапевт (тем более конкретно этот психотерапевт), например, о психике, о ее механике, психических расстройствах, у него нет опыта общения с сотнями пациентов, которые испытывали сходные проблемы, он ничего не знает об эффективности проводимого лечения в каждом таком случае, как эти пациенты реагировали на те или иные ситуации и методы лечения и т. д. и т. п.
Вот тут-то нам на помощь и приходит нарратив: история, которая позволит нашему условному пациенту (как, впрочем, и любому человеку в любой другой ситуации) собрать разрозненные представления о ситуации (явлении, феномене, понятии) в рамках некой фабулы, и тогда уже сама эта фабула «объяснит» уместность и состоятельность каждого из этих представлений.
Психологическая ценность нарратива состоит в том, что человек может как бы примерить его на себя: нечто, условно говоря, случилось с другим человеком, а я могу представить, что со мной случилось то же самое. Я как бы мысленно погружаю себя в предлагаемые обстоятельства и начинаю «понимать», что случилось. До тех пор пока я не могу «примерить» на себя все эти обстоятельства, соответствующие представления в моей голове не рисуются, не интегрируются в единый и цельный объект.
Но вопрос в том, что за «гардероб» я использую, выволакивая на сцену своего «понимания» все эти «обстоятельства», которые, как мне кажется, связаны, допустим, с Кантом? Очевидно, что каждое из них было создано таким же – искусственным – образом. Например, мне рассказывают о слуге Канта, о его кухарке, а еще о том, что он прекрасно играл в бильярд. И я их себе представляю, но таким образом, как я представляю себе «слугу», «кухарку» и «бильярд», то есть это мои, а не Канта «слуга», «кухарка» и «бильярд» [81] Мне, например, все без исключения азартные игры с шарами кажутся, как минимум, странными. Еще Галилея с шарами я могу понять (хотя вряд ли бы сам стал катать их по каким-то наклонным поверхностям), но вот Кант с бильярдом – это какая-то, на мой взгляд, отчаянная глупость (лучше бы уж он согласился на должность профессора кафедры стихосложения, от чего он, впрочем, предусмотрительно отказался).
.
Все, что я себе представил, искренне полагая, что думаю о Канте, было скроено из тех интеллектуальных объектов, которые у меня уже были – родились в моем опыте, создавались по другим поводам и, очевидно, не имели никакого отношения к величайшему философу Кенигсберга. Сейчас я поднял их из глубин своей долговременной памяти, облачил в них «Канта», и все мне стало с ним «понятно». Но это «понятно», конечно, чистейшей воды иллюзия, и «понимаю» я в таком случае не Канта (или кого-либо еще, думая, что «понимаю» именно его), а лишь самого себя. Иными словами, «лев» так и остался непонятым, да и Фреге я бы, вероятно, тоже не узнал.
Несмотря на все это, у меня есть достаточно объемные представления о «Канте» и «его философии», свернутые в некий цельный интеллектуальный объект, который, грубо говоря, находится у меня в «нижнем мозге». То есть этот объект, несмотря на свою массивность, даже не может похвастаться развернутой структурой. Да, пока я работал над созданием соответствующего интеллектуального объекта, он, конечно, разворачивался во мне как некая система отношений, интегрировался с другими интеллектуальными объектами моего пространства мышления, переживался мною в опыте – размышлений, сличения, сопоставления и т. д. Но потом, когда я решил, что дело сделано, точнее, соответствующий когнитивный гештальт у меня сложился (достаточное количество нарративов отыграли во мне свои пьесы), я ужал его до единичности, которая теперь будет возбуждаться во мне всякий раз, когда я заслышу слово «Кант» или, например, обнаружу его имя в какой-нибудь книге.
Впрочем, все то же самое касается и любого другого акта моей коммуникации: чтобы «понять», что говорит другой человек, мне неплохо было бы знать, кроме самих этих его высказываний, и то, что говорят о нем другие люди, что представляет собой его образ жизни, каковы его привычки, личностные качества [82] Кстати сказать, в ряде исследований было показано, что наиболее информативным, если мы хотим, как говорится, «понять человека», является вовсе не его самоотчет и даже не то, что нам могут рассказать о нем его знакомые, а непредвзятое исследование его жилища (комнаты или квартиры).
, а также то, что он знает – какова степень его осведомленности, насколько обстоятелен его подход к тому или иному вопросу, насколько он последователен в своем исследовании темы и т. д. и т. п. Собрав всю эту информацию я, как может показаться, вполне способен понять мысли собеседника. Однако произведенная мною реконструкция его «внутренней реальности», надо признать, все еще останется предельно ущербной, но, чтобы понять это, необходимо выслушать очень многих людей, которые его знают.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Андрей Курпатов Мышление. Системное исследование [litres] обложка книги](/books/412415/andrej-kurpatov-myshlenie-sistemnoe-issledovanie-cover.webp)



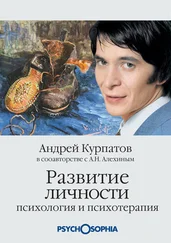


![Андрей Курпатов - Не надо пофигизма [litres]](/books/395264/andrej-kurpatov-ne-nado-pofigizma-litres-thumb.webp)
![Андрей Курпатов - Настоящая жизнь [Вам шашечки или ехать? Универсальные правила] [litres]](/books/403972/andrej-kurpatov-nastoyachaya-zhizn-vam-shashechki-ili-e-thumb.webp)



