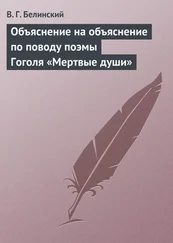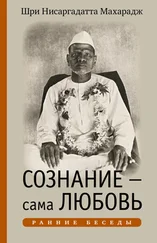Как и другие социологи, я рассматриваю любовь как привилегированный микрокосм, с помощью которого можно понять процессы модернизма, но в отличие от них история, которую я должна рассказать, не героическая победа чувств над разумом и гендерного равенства над гендерной эксплуатацией, это история, в которой все далеко не так однозначно.
В отличие от любой другой дисциплины социология возникла из отчаянных и тревожных вопросов о значении и последствиях модернизма. Карл Маркс, Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм, Георг Зиммель — все они пытались понять смысл перехода от «старого» мира к «новому». «Старым» была религия, община, порядок и стабильность. «Новым» были захватывающие дух перемены, отделение церкви от государства, расторжение общественных связей, растущие претензии на равенство и мучительная неопределенность в отношении личности. С тех самых пор, с того самого удивительного периода, отмечающего переход от середины XIX к XX в., социология задавалась одними и теми же острыми вопросами: не подорвет ли общественный порядок снижение роли религии и общины в жизни общества? Сможем ли мы жить содержательной полноценной жизнью в отсутствие святости? В частности, Макс Вебер был обеспокоен вопросами, которыми задавались Достоевский и Толстой: «Если мы больше не боимся Бога, что будет с нашей нравственностью? Если мы больше не связываем нашу жизнь со святостью, общиной и послушанием, что сделает нашу жизнь содержательной, что даст ей смысл? Если в основе нравственности человек, а не Бог, что случится с „этикой братства“, ставшей движущей силой религий? [12] Вебер М. Направления религиозного неприятия мира // in H. H. Gerth and C. W. Milles (eds and trans), From Max Weber. London: Routledge, 1970 [1948]. С. 323–359 [ Weber M. Religious Rejections of the World and Their Directions, in H. H. Gerth and C. W. Milles (eds and trans), From Max Weber. London: Routledge, 1970 [1948]. P. 323–359].
». На самом деле, изначально, социология была призвана понять, каким мог бы стать смысл жизни после упадка религии.
Большинство социологов сошлись во мнении, что модернизм предложил вдохновляющие возможности, но также и риски, угрожающие нам жить наполненной смыслом жизнью. Даже социологи, признавшие, что модернизм означал прогресс по сравнению с невежеством, хронической бедностью и повсеместным подчинением, все еще рассматривали его как оскудение нашей способности рассказывать красивые истории и жить в богато обставленной культурной среде. Модернизм отрезвил людей, освободил их от сильных, но сладких иллюзий и заблуждений, которые делали их страдания терпимыми. Лишенные этих фантазий люди проводили бы свои жизни без каких-либо обязательств по отношению к высшим принципам и ценностям, без религиозного пыла и экстаза, без героизма святых, без определенности и упорядоченности божественных заповедей, но больше всего — без тех романов, которые утешают и украшают жизнь.
Подобное отрезвление нигде более не проявляется так очевидно, как в сфере любви, которой в течение нескольких веков в истории Западной Европы управляли идеалы рыцарства, доблести и романтизма. Рыцарство следовало одному кардинальному положению: преданно и самоотверженно защищать слабых. Слабость женщин, таким образом, стала частью культурной системы, где она была общепризнана и окружена ореолом, поскольку преобразовала мужскую власть и женскую хрупкость в привлекательные качества: «способность защитить» для мужчин и «мягкость» и «нежность» для женщин. Женская социальная неполноценность могла таким образом обмениваться на абсолютную мужскую преданность в любви, которая, в свою очередь, служила той самой областью проявления мужественности, доблести и чести. Более того, лишение женщин права собственности и экономических и политических прав сопровождалось (и, по-видимому, компенсировалось) заверением, что, будучи любимыми, они не только защищены мужчинами, но даже имеют превосходство над ними. Поэтому неудивительно, что любовь исторически так желанна для женщин; она обещала моральный статус и достоинство, в котором им было отказано в обществе, и ореолом окружила их социальный удел: быть матерью, женой или любовницей, любить и заботиться о других. Так, исторически любовь была крайне привлекательной именно потому, что, приукрасив, она скрыла глубокое неравенство, лежащее в основе гендерных отношений.
Высокий, или гипермодернизм, узко определенный в этой книге, это период после Первой мировой войны, известный повсеместно как модернизм, обозначивший обострение социальных тенденций, заложенных в раннем модернизме, и изменивший, порой глубоко, культуру любви и структуру гендерной идентичности. Эта культура действительно сохранила и даже усилила идею любви, наделяя ее способностью выходить за рамки обыденного. Впрочем, когда в интимных отношениях оказались вместе два политических идеала гендерного равенства и сексуальной свободы, это лишило любовь ритуалов уважения и той мистической ауры, которой она ранее была окутана. Все святое в любви стало мирским, и в конечном итоге мужчины вынуждены были трезво взглянуть на реальные условия жизни женщин. Этот глубокий раскол и двойственный характер любви, являющиеся источниками экзистенциальной трансцендентности и глубоко оспариваемой областью проявления гендерной идентичности, характеризуют современную культуру любовных отношений. Строго говоря, проявить гендерную идентичность и осуществить гендерную борьбу означает разобраться с институциональными и основными культурными дилеммами и двойственностью модернизма, дилеммами, организованными вокруг ключевых культурных и институционных идей подлинности, независимости, равенства, свободы, ответственности и самореализации. Изучение любви не является второстепенным, оно имеет ключевое значение для изучения сути и основ модернизма [13] Это также является теоретической и социологической точкой зрения различных социологов, таких как Гидденс, Бек и Гернсхайм-Бек и Бауман.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу