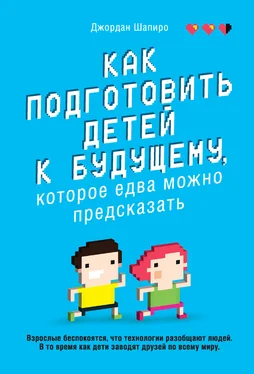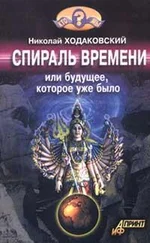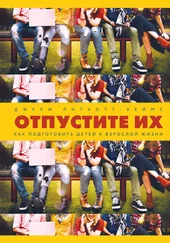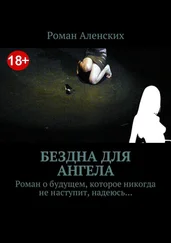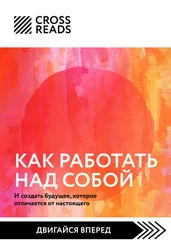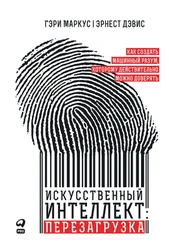Конечно, различные дисциплины описывают разные вещи по-разному – и на протяжении всей этой книги я обсуждал степень, в которой среда формирует послание. Но пока давайте отложим в сторону различия и сосредоточимся на том, что общего у всех систем знаний. Они направлены на одно и то же: учет событий, передачу данных, описание опыта, обмен информацией и отраслевыми знаниями.
Чтобы понять, что я имею в виду, вспомните, как строится знание. В основе лежат данные, и только после наблюдения, определения, категоризации, представления и извлечения они становятся информацией. Она, в свою очередь может перейти или не перейти в знание.
Рассмотрим на примере луча закатного солнца. Он отражается и преломляется: синие волны рассеиваются, а красные фильтруются в самых плотных слоях атмосферы. Нам это известно, потому что когда-то людям захотелось узнать о причинах градиента на вечернем небосклоне. Мы распознали закономерности. Мы обозначили это явление так, чтобы его было легко описать. Необработанные сенсорные стимулы были представлены словом «закат». Он стал конечной точкой ежедневного путешествия Гелиоса по бескрайнему небу Урана. Он стал картиной Моне с силуэтом купола собора Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции, виднеющимся вдали. Он стал стихотворением Уолта Уитмена [19] Американский поэт XIX века, автор сборника «Листья травы» (прим. ред.).
, повествующим о «бесконечных финалах явлений». Он стал фотонами и волнами света, преломленными через молекулярную призму.
Какие характеристики важнее? Все зависит от контекстов, в которых люди изучают это явление в школе, и от того, как они их применяют. На уроке истории мой сын читает Гомера и узнает, что древние греки верили, что Гелиос «сияет в своей колеснице, запряженной лошадьми». На рисовании он знакомится с характерными мазками импрессионистов. На уроке английской литературы он узнает, что сборник «Листья травы» бросил вызов викторианцам, привнеся чувственное удовольствие в романтическую эпоху. На химии его учат различать жидкости, твердые тела и газы. А учитель физики объясняет, что фотоны ведут себя и как волны, и как частицы. Каждая дисциплина – это код, способ учета цветов неба, язык, на котором мой сын учится говорить и расшифровывать разнообразные идеи. Затем, обучаясь одновременно в нескольких контекстах, он может легко обмениваться наблюдениями с другими людьми. Информация становится валютой.
Всякий раз, когда люди коллективно соглашаются на общий способ кодирования и декодирования наших представлений о мире, информация превращается в знание. «Знания – это информация, которой человек обладает в той форме, которой он или она может незамедлительно воспользоваться, – говорит Кит Девлин, всемирно известный математик, который в настоящее время работает исполнительным директором Института перспективных исследований в области гуманитарных наук и технологий Стэнфордского университета. – В XXI веке ни один гражданин не сможет нормально функционировать без базового понимания информации и анализа того, что необходимо для превращения информации в знания».
Мне нравится формулировка Кита. Он знает, как точно определить, что люди имеют в виду, когда определяют адаптивность, гибкость и креативность как ключевые навыки, необходимые для цифрового мира. Они говорят о способности модифицировать языки, коды и информационные системы прошлого, чтобы они оставались актуальными и сохраняли свой статус и полезность как знания – даже в меняющихся контекстах. Это реальное решение проблемы навыков XXI века: школа должна переподготовить детей, чтобы они могли использовать старые знания в новых системах управления информацией.
К сожалению, большинство наших нынешних образовательных подходов занимается обратным. Как будто мы складываем iPad в шкаф для хранения документов. Мы учим детей понимать данные, информацию и знания, которые уже устарели. Возможно, это связано с тем, что мы все еще ослеплены информационными инновациями прошлого.
Когда Мелвил Дьюи в конце XIX века представил свою десятичную классификацию, она нарушила работу библиотек. До Дьюи книги были сложены так же, как у меня дома на тумбочке: в стопке, в том порядке, в котором были приобретены. Переплеты обращены наружу, и, когда мне хочется почитать, я просто достаю определенный том из стопки. Библиотеки до Дьюи были лишь немногим более сложными. При поступлении книге присваивался номер, а затем она помещалась на следующее свободное место на полке. Чтобы найти то, что вам нужно, нужно было попредметно просмотреть всю картотеку. Там было указано расположение каждого конкретного издания: например, «Замок» Франца Кафки мог быть книгой номер 4023, хранящейся в дальней части длинной комнаты. Между темой книги и ее размещением не было никакой связи. Две книги Кафки могли храниться по разные стороны одного и того же здания.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу