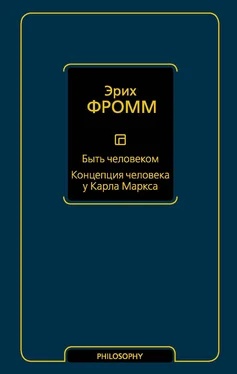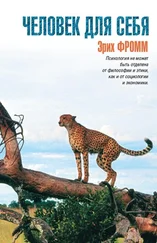Кульминацией мысли Гегеля служит понимание возможностей, присущих вещи, как диалектического процесса, в котором вещи проявляют себя, и идея о том, что в ходе этого процесса происходит активное движение таких возможностей. Похожий взгляд на динамический характер этого процесса можно найти уже в этической системе Спинозы. Для Спинозы все аффекты делятся на пассивные (страсти), в силу которых человек страдает, не имея адекватного представления о реальности, и активные (действия), в которых проявляются сила духа и великодушие человека, делая его свободным и созидательным существом. Гёте, который, как и Гегель, во многом испытал влияние Спинозы, развил идею созидательности человека и сделал ее центральным пунктом своей философии. Для него все периоды упадка культуры характеризуются тенденцией к чистому субъективизму, в то время как во все прогрессивные периоды человек стремится понять мир таким, каков он есть, прибегая к собственной субъективности, но не отделяя себя от мира [156]. Гёте поясняет это на примере поэта: «Пока человек выражает лишь субъективные впечатления, его еще нельзя назвать поэтом, однако как только он понимает, как объять весь мир и выразить его , он поэтом становится. Тогда он неисчерпаем и может быть вечно новым, в то время как его чисто субъективная натура исчерпывается и не имеет что сказать» [157]. По словам Гёте, «человек знает себя только в той мере, в какой он знает мир; он знает мир лишь через себя и осознает самого себя, лишь будучи погруженным в мир. Каждый новый объект, действительно опознанный нами, открывает существование нового органа в нас самих» [158]. Гёте в «Фаусте» дал наиболее поэтичное и мощное выражение идее человеческого созидания. Фауст учит: ни обладание, ни власть, ни чувственное удовлетворение не могут исполнить желание человека понять смысл жизни; во всем этом он остается отделенным от целого, а следовательно, несчастным. Только созидательная активность может придать смысл жизни человека; тогда, наслаждаясь жизнью, человек больше не цепляется за нее с жадностью. Отказавшись от того, чтобы иметь , он полностью осуществляет свою функцию быть ; он становится полон, потому что пуст, и делается многим, потому что обладает малым [159].
Гегель дал наиболее систематическое и исчерпывающее определение созидательного человека – индивида, являющегося творческой личностью только тогда, когда он не пассивно реагирует на мир, а активно и созидательно относится к нему, таким образом делая его своим собственным. Гегель весьма поэтически сформулировал эту идею: субъект, желающий осуществиться, сделает это, «выведя себя из ночи возможности в день реализации». Для Гегеля развитие сил индивида, способностей и потенциала возможно только благодаря постоянной деятельности, а не чистому размышлению или восприимчивости. Для Спинозы, Гёте, Гегеля, как и для Маркса, человек жив лишь в том случае, если он созидателен, если он охватывает собой внешний мир в акте выражения собственных сугубо человеческих сил. Если же человек не продуктивен, если он пассивен и только реагирует на него, – он ничто, он мертв. В творческом процессе человек реализует свою сущность, возвращается к своей сущности, что на теологическом языке есть не что иное, как возвращение к Богу.
Для Маркса человек характеризуется «принципом движения»; знаменательно, что в связи с этим он цитирует великого мистика Якоба Бёме [160]. Принцип движения не следует понимать механистически; это стремление, творческая и жизненная энергия. Для Маркса человеческая страсть – главная движущая сила человека, энергично стремящегося к своей цели.
Концепция созидательности в противоположность концепности реагирования может быть более ясно понята, если мы рассмотрим, как Маркс применял ее к феномену любви. «Предположи теперь человека как человека и его отношение к миру как человеческое отношение: в таком случае ты сможешь любовь обменивать только на любовь, доверие – только на доверие и т. д. Если ты хочешь наслаждаться искусством, то ты должен быть художественно образованным человеком. Если ты хочешь оказывать влияние на других людей, то ты должен быть человеком, действительно стимулирующим и двигающим вперед других людей; каждое из твоих отношений к человеку и к природе должно быть определенным, соответствующим объекту твоей воли проявлением твоей действительной индивидуальной жизни. Если ты любишь, не вызывая взаимности, т. е. если твоя любовь как любовь не порождает ответной любви, если ты своим жизненным проявлением в качестве любящего человека не делаешь себя человеком любимым, то твоя любовь бессильна, и она – несчастье» [161]. Маркс подчеркивал особое значение любви между мужчиной и женщиной как естественнейшего отношения двух человеческих существ. Выступая против вульгарного коммунизма, предлагавшего обобществление всех сексуальных отношений, Маркс писал: «В отношении к женщине, как к добыче и служанке общественного сладострастия, выражена та бесконечная деградация, в которой человек оказывается по отношению к самому себе, ибо тайна этого отношения находит свое недвусмысленное, решительное, открытое, явное выражение в отношении мужчины к женщине и в том, как мыслится непосредственное, естественное родовое отношение. Непосредственным, естественным, необходимым отношением человека к человеку является отношение мужчины к женщине. В этом естественном родовом отношении человека к природе непосредственно заключено его отношение к человеку, а его отношение к человеку есть непосредственным образом его отношение к природе, его собственное природное предназначение. Таким образом, в этом отношении проявляется в чувственном виде, в виде наглядного факта то, насколько стала для человека природой человеческая сущность или насколько природа стала человеческой сущностью человека. На основании этого отношения можно, следовательно, судить о степени общей культуры человека. Из характера этого отношения видно, в какой мере человек стал для себя родовым существом, стал для себя человеком и мыслит себя таковым. Отношение мужчины к женщине есть естественнейшее отношение человека к человеку. Поэтому в нем обнаруживается, в какой мере естественное поведение человека стало человеческим или в какой мере человеческая сущность стала для него естественной сущностью, в какой мере его человеческая природа стала для него природой. Из характера этого отношения явствует также, в какой мере потребность человека стала человеческой потребностью, т. е. в какой мере другой человек в качестве человека стал для него потребностью, в какой мере сам он, в своем индивидуальнейшем бытии, является вместе с тем общественным существом» [162].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу