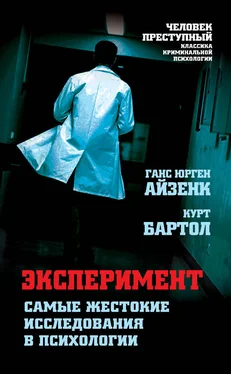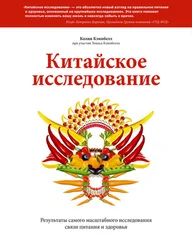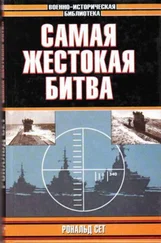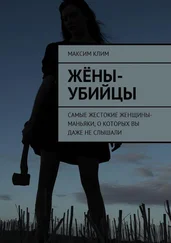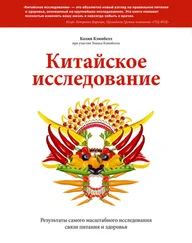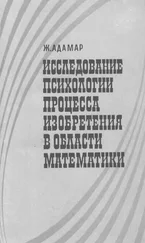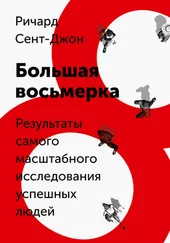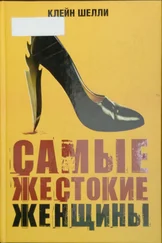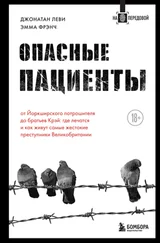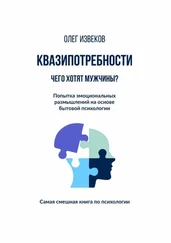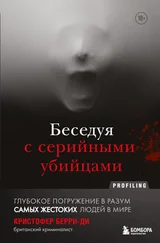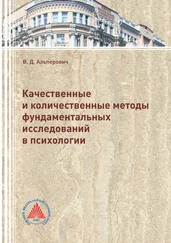Другой чертой личности, характерной для преступников и людей, склонных к антисоциальному поведению, является сильная эмоциональность, то есть сверхчувствительность лимбической системы (размещающейся в палеокортексе), которая контролирует выражение эмоций. Имеются и другие черты личности, связанные с преступностью, но нет необходимости входить здесь в подробности, чтобы показать, что антисоциальное поведение тесно связано с некоторыми личностными типами.
Эта связь обнаружена не только в Западной Европе и в Соединенных Штатах, но также и в таких восточноевропейских странах, как Венгрия, а также в странах третьего мира, например в Индии. Другими словами, эта связь не является культурно зависящей, как хотели бы представить это некоторые критики марксистского толка, она универсальна и распространена повсеместно.
Генетический компонент преступности
Теперь хорошо установлено, что изменения личности, рассматриваемые здесь, глубоко укорены в генетической конституции человека, при этом генетические факторы отвечают примерно за три четверти всех индивидуальных особенностей, в то время как факторы среды отвечают примерно за одну треть. Это красноречиво говорит о том, что преступные наклонности, как и умственные способности, имеют генетический компонент, и действительно факты полностью подтверждают такой взгляд.
Один из источников фактического материала — исследования близнецов (однояйцевых и двуяйцевых). В экспериментах такого рода психологи отправляются в тюрьмы и читают там дела всех заключенных с целью выяснить, есть ли среди них близнецы. Затем они разыскивают другого близнеца, чтобы выяснить, является ли он однояйцевым или двуяйцевым близнецом и привлекался ли он к уголовной ответственности. Поскольку в случае однояйцевых близнецов имеется 100-процентная общность наследственности, в отличие в среднем от всего лишь 50 процентов для двуяйцевых близнецов, от однояйцевых близнецов можно было бы ожидать большего «согласия», чем от двуяйцевых близнецов, если корни преступного поведения уходят в наследственность. Теперь мы имеем более десятка таких исследований, проведенных в разных странах. И общий вывод этих исследований говорит о том, что однояйцевые близнецы примерно в четыре раза чаще демонстрируют «согласие», чем двуяйцевые близнецы. Таким образом, если один из близнецов преступник, вероятность того, что и другой близнец тоже преступник, в четыре раза выше, если он однояйцевый, а не двуяйцевый близнец.
Другим источником фактических свидетельств являются исследования приемных детей. Дети, усыновляемые в раннем детстве, получают свой генетический багаж от своих биологических родителей, а среду от своих приемных родителей. Что из двух сильнее в определении криминальных или некриминальных черт, когда они вырастают? И в этом случае, если судить по проведенным в нескольких странах исследованиям, можно сказать, что генетический компонент гораздо более важный. Приемные дети склонны вести себя во многом так же, как и их биологические родители, а не так, как воспитывали их приемные родители. Здесь можно увидеть, что среда и воспитание обладают меньшим влиянием, чем наследственность, однако оба фактора важны и оба играют свою роль в формировании антисоциального поведения. Мы особенно подчеркиваем здесь значение генетических факторов потому, что в последние 50 лет наблюдается тенденция усиливать значение среды и умалять значение генов.
Теперь мы можем понять, почему попытки изменить криминальные наклонности, повлиять на мотивы и поведение преступников и убедить их стать законопослушными гражданами редко когда увенчивались успехом. Существует сильный генетический фактор, действующий на уровне довольно примитивной части нашего мозга (палеокортекса), которая говорит на языке, совершенно отличном от языка рассудочного мышления, который понимает неокортекс (новая кора). Вот почему рациональный подход — апеллирование к разуму и чувству социальной ответственности — так часто терпел неудачу, как потерпели неудачи социологический метод и психоаналитический подход. Если мы хотим добиться успеха, нам придется научиться разговаривать на языке палеокортекса (древней коры) и понять, как применить законы формирования условных рефлексов к проблемам, которые ставит перед нами преступность.
Перевоспитание против наказания
Это крайне сложная задача, но начало уже положено и успех, хотя и ограниченный, уже достигнут. Мы хотим подчеркнуть здесь один важный момент, который часто превратно толкуют. Люди склонны делать поспешный вывод, что теория формирования условных рефлексов, которую мы описали, оправдывает суровые и дикие исправительные меры. Это не так. Очень много известно о влиянии наказания, и самое важное из этого то, что суровое наказание усиливает эмоциональную реакцию врожденного характера преступника и только усугубляет ситуацию. Вспомните, что в эксперименте Соломона со щенками наказание — легкий шлепок свернутой газетой — было очень мягким, столь мягким, что едва ли может рассматриваться наказанием. Только когда используются сравнительно мягкие наказания или вознаграждения при тщательном наблюдении специалистов, достигается желанный эффект. Теория воспитания путем формирования условных рефлексов не оправдывает грубого и жестокого обращения с преступниками, но она и не оправдывает слишком мягкого с ними обращения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу