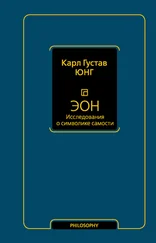Любое отношение к архетипу, переживаемое или просто именуемое, «задевает» нас; оно действенно потому, что пробуждает в нас голос более громкий, чем наш собственный. Говорящий праобразами говорит как бы тысячью голосов, он пленяет и покоряет, он поднимает описываемое им из однократности и временности в сферу вечносущего, он возвышает личную судьбу до судьбы человечества, и таким путем высвобождает в нас все те спасительные силы, что извечно помогали человечеству избавляться от любых опасностей и превозмогать даже самую долгую ночь. Такова тайна воздействия искусства. Творческий процесс, насколько мы вообще в состоянии проследить его, складывается из бессознательного одухотворения архетипа, из его развертывания и пластического оформления вплоть до завершенности произведения искусства. Художественное развертывание праобраза есть в определенном смысле его перевод на язык современности, после чего каждый получает возможность, так сказать, снова обрести доступ к глубочайшим источникам жизни, которые иначе остались бы для него за семью замками.
Здесь кроется социальная значимость искусства: оно неустанно работает над воспитанием духа времени, потому что дает жизнь тем фигурам и образам, которых духу времени как раз всего больше недоставало. От неудовлетворенности современностью творческая тоска уводит художника вглубь, пока он не нащупает в своем бессознательном того праобраза, который способен наиболее действенно компенсировать ущербность и однобокость современного духа. Он прилепляется к этому образу, и по мере своего извлечения из глубин бессознательного и приближения к сознанию образ изменяет и свой облик, пока не раскроется для восприятия человека современности. Вид художественного произведения позволяет нам делать выводы о характере эпохи его возникновения. Что значит реализм и натурализм для своей эпохи? Что значит романтизм? Что значит эллинизм? Это направления искусства, несшие с собой то, в чем всего больше нуждалась современная им духовная атмосфера. Художник как воспитатель своего века — об этом можно было бы сейчас еще очень долго говорить.
Как у отдельных индивидов, у народов и эпох есть свойственная им направленность духа, или жизненная установка. Само слово «установка» уже выдаст неизбежную односторонность, связанную с выбором определенной направленности. Где есть направленность, там есть и устранение отвергаемого. А устранение означает, что такие-то и такие-то области психики, которые тоже могли бы жить жизнью сознания, не могут жить ею, поскольку это не отвечает глобальной установке. Нормальный человек без ущерба способен подчиниться глобальной установке; человек окольных и обходных путей, не могущий идти рядом с нормальным по широким торным путям, скорее всего и окажется открывателем того, что лежит в стороне от столбовых дорог, ожидая своего включения в сознательную жизнь. Относительная неприспособленность художника есть по-настоящему его преимущество, она помогает ему держаться в стороне от протоптанного тракта, следовать душевному влечению и обретать то, чего другие были лишены, сами того не подозревая. И как у отдельного индивида односторонность его сознательной установки корректируется в порядке саморегулирования бессознательными реакциями, так искусство представляет процесс саморегулирования в жизни наций и эпох.
Я сознаю, что в рамках доклада мне удалось изложить лишь несколько общих соображений, да и то в сжатой и эскизной форме. Но я, пожалуй, вправе надеяться, что мои слушатели уже успели подумать о не сказанном мною, а именно о конкретном приложении всего этого к поэтико—художественному произведению, и тем самым наполнили плотью и кровью абстрактную скорлупу моей мысли.
Jung C.G. Memories, Dreams, Reflections. L., 1963. Р. 62—64.
Jung C.G. Bewussnes und Unbewustes. Olten, 1971. S.24.
Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. С. 307
Jung C.G. Memories, Dreams, Reflections. P. 130
Jung C.G. Uber die Psychologie des Unbewusten. Frankfurt a.M., 1975. S. 72-73
Jung C.G. Psychologiy and East. L., 1978. Р. 99
7. Jung C.G. Symbole der Wandlung. Zurich, 1952. S. 23.., 1978. Р. 99
Jung C.G. Psychology and Religion. New Haven, L., 1938. Р. 58
Jones H. The Gnostic Religion. Boston, 1963. P. 328
Jung C.G. Psychology and Religion. P. 64
Jung C.G. Uber die Psychologie des Unbewussten. S. 119
Юнг впервые использовал термин «мистическое участие», заимствовав его у антрополога Леви-Брюля, в 1912 г. для обозначения таких отношений между субъектами, при которых один человек стремится добиться влияния на другого. Мистическое участие, или проективная идентификация, представляет собой вид психологической зашиты, в особенности в детском возрасте, но встречается также и во взрослой патологии. В повседневной жизни мистическое участие может проявляться в ситуации, когда, скажем, два человека могут предвосхищать желания друг друга, заканчивать начатую другим мысль и т.п.
Читать дальше

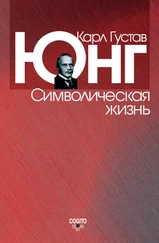


![Карл Юнг - Архетипы и коллективное бессознательное [litres]](/books/398004/karl-yung-arhetipy-i-kollektivnoe-bessoznatelnoe-thumb.webp)