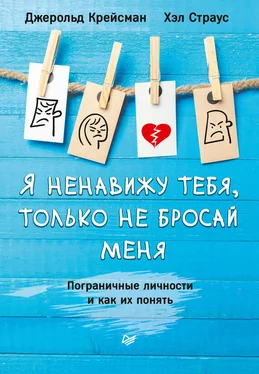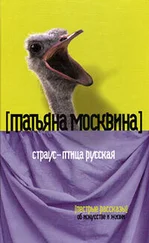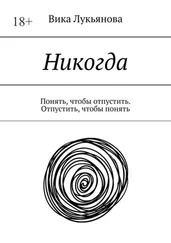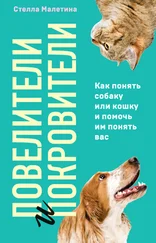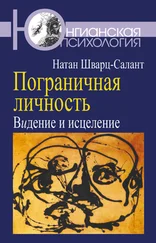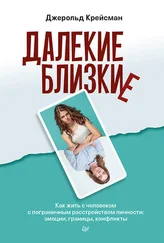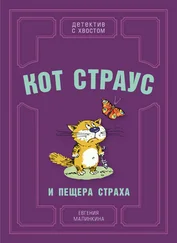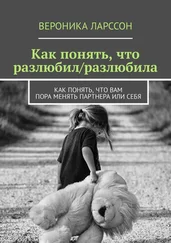Предложенная Фрейдом теория бессознательного легла в основу психоанализа. Ученый полагал, что причина психопатологий заключается в конфликте между примитивными бессознательными импульсами и потребностью сознания помешать этим ужасающим, неприемлемым мыслям стать осознанными. Фрейд впервые применил гипноз, а позднее «свободные ассоциации» и другие классические техники психоанализа для объяснения свои теорий.
По иронии, Фрейд намеревался сделать классический психоанализ основным инструментом исследования, а не лечения. Он опубликовал яркие истории своих пациентов – «Человек-крыса», «Человек-волк», «Маленькие руки», «Анна О» и другие, – чтобы поддержать свои развивающиеся теории, а также прорекламировать психоанализ как метод лечения. Сегодня многие психоаналитики считают, что эти пациенты, которые, по мнению Фрейда, страдали истерией и другими типами неврозов, в наше время были бы однозначно диагностированы как пограничные личности.
Постфрейдистские психоаналитики
Психоаналитики, последовавшие за Фрейдом, внесли основной вклад в сегодняшнюю концепцию пограничного синдрома [158] Michael H. Stone, “The Borderline Syndrome: Evolution of the Term, Genetic Aspects and Prognosis,” American Journal of Psychotherapy 31 (1977): 345–365.
. В 1925 году в работе «Импульсивный характер» Вильгельм Райх описал попытки применить психоанализ к некоторым необычным характерологическим расстройствам, с которыми он столкнулся в своей клинике. Он обнаружил, что человек с «импульсивным характером» часто погружался в два резко противоречащих друг другу эмоциональных состояния одновременно, но при этом мог поддерживать оба состояния без видимого дискомфорта через механизм расщепления – эта концепция стала центральной для всех последующих теорий по пограничному синдрому, особенно для теории Кернберга (см. с. 298).
В конце 1920-х – начале 1930-х годов последователи британского психоаналитика Мелани Кляйн исследовали случаи многих пациентов, которые казались недоступными для психоанализа. Кляйнианцы фокусировались на психологической динамике, а не на биолого-конституциональных факторах.
Термин пограничный впервые использовал Адольф Штерн в 1938 году для описания группы пациентов, которые, казалось, не укладывались ни в одну из основных диагностических классификаций «неврозов» и «психозов» [159] Adolph Stern, “Psychoanalytic Investigation of and Therapy in the Border Line Group of Neuroses,” The Psychoanalytic Quarterly 7 (1938): 467–489.
. Эти индивиды были явно более больны, чем невротики, – по сути, «слишком больны для классического психоанализа», – но, в отличие от психотиков, не демонстрировали постоянной склонности неправильно интерпретировать реальность. Хотя, как и невротики, они проявляли широкий спектр тревожных симптомов, невротики обычно обладали более крепкой, последовательной идентичностью и прибегали к более зрелым механизмам приспособления.
На протяжении 1940-х и 1950-х годов другие психоаналитики начали распознавать целый пласт пациентов, которые не подходили под существующие описания патологий. Некоторые пациенты казались невротическими или проявляющими неглубокие симптомы, однако после начала традиционной психотерапии, особенно психоанализа, они «разоблачались». Аналогично госпитализация обостряла их симптомы и усиливала инфантильное поведение, а также зависимость от терапевта и больницы.
Другие пациенты, казалось, страдали от серьезного психоза, часто даже получали диагноз «шизофрения», а затем внезапно восстанавливались за очень короткий период. (Такое резкое улучшение нехарактерно для обычного течения шизофрении.) Некоторые пациенты проявляли симптомы депрессии, но их радикальные смены настроения не укладывались в типичный профиль депрессивных расстройств.
Психологические тесты также подтверждали наличие нового диагноза. Некоторые пациенты нормально справлялись со структурированными психологическими тестами (такими, как тестирование уровня IQ), но на неструктурированных проекционных тестах, требующих повествовательных персонализированных ответов (таких, как тест чернильных пятен Роршаха), их реакция куда больше напоминала реакцию психотических пациентов, которые мыслили и фантазировали на более регрессивном, детском уровне.
Во время этого послевоенного периода специалисты по психоанализу сконцентрировались на различных аспектах синдрома, стремясь разработать его лаконичную схему. Во многих отношениях ситуация напоминала старую притчу о слепых, которые стоят вокруг слона, ощупывают различные его части и пытаются понять, что за животное перед ними. Все они называли разных животных; так же и ученые, нащупав и определив различные аспекты пограничного синдрома, не могли увидеть цельную картину. Многие исследователи (Зилбург, Хох и Полатин, Байчовски и другие) [160] Gregory Zilboorg, “Ambulatory Schizophrenia,” Psychiatry 4 (1941): 149–155.
[161] Paul Hoch and Philip Polatin, “Pseudoneurotic Forms of Schizophrenia,” Psychiatric Quarterly 23 (1949): 248–276.
[162] Gustav Bychowski, “The Problem of Latent Psychosis,” Journal of the American Psychoanalytic Association 4 (1953): 484–503.
и DSM-II (1968 года) [163] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , 2nd ed. (DSMII) (Washington, DC: American Psychiatric Association, 1968).
поддерживали представление о шизофренических аспектах расстройства, прибегая к таким терминам, как «амбулаторная шизофрения», «пре-шизофрения», «псевдоневротическая шизофрения» и «латентная шизофрения», для описания этой болезни. Другие фокусировались на отсутствии последовательного осознания своей идентичности у пациентов. В 1942 году Хелене Дойч описала группу пациентов, которые преодолевали внутреннее ощущение опустошенности, прибегая, как хамелеоны, к изменению своих внутренних и внешних эмоциональных переживаний, чтобы они соответствовали текущему окружению и ситуации. Она назвала эту склонность перенимать качества других для завоевания или сохранения их любви «как будто личность» [164] Helene Deutsch, “Some Forms of Emotional Disturbance and the Relationship to Schizophrenia,” The Psychoanalytic Quarterly 11 (1942): 301–321.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу