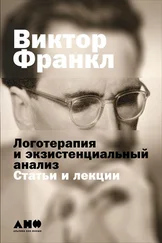Бытие человека мы охарактеризовали как бытие ответственное. Это бытие-ответственность является каждый раз ответственностью за реализацию ценностей. Говоря об этих ценностях, мы уже сказали, что должны учитываться единственные в своем роде "ситуационные ценности" (Шелер). Шансы реализации ценностей приобретают таким образом конкретные очертания. Но они не только соотносятся с ситуацией, но и увязаны с личностью; они меняются от личности к личности так же, как и от часа к часу. Возможности, которые каждый человек имеет исключительно для себя, являются такими же специфичными, как и возможности, которые предлагает каждая историческая ситуация в ее неповторимости.
Общезначимая, обязательная для всех жизненная задача в экзистенциальном аспекте нам, собственно говоря, кажется невозможной. В такой постановке вопрос о задаче жизни, смысле жизни вообще бессмыслен. Он напоминает вопрос репортера, который берет интервью у чемпиона мира по шахматам: "А скажите, уважаемый маэстро, какой шахматный ход самый лучший?". На этот вопрос невозможно ответить в общем, он имеет смысл лишь в отношении конкретной позиции. Шахматный чемпион, если бы он вообще всерьез воспринял этот вопрос, должен был бы ответить: "Шахматист должен действовать так, чтобы в зависимости от того, что он может, и от того, что допускает противник, каждый раз пытаться сделать наиболее сильный ход". При этом следовало бы подчеркнуть две вещи: во-первых, "в зависимости от того, что он может", этим, собственно, полагается, что следует принимать в расчет и внутреннюю ситуацию, т. е. то, что называют предрасположенностью; и во-вторых, следует принимать во внимание, что игрок всегда может лишь "попытаться" сделать в каждой конкретной игровой ситуации самый удачный, т. е. лучше всего отвечающий данному расположению фигур, ход. Если бы он заранее настроился на то, чтобы сделать "абсолютно хороший ход", то он должен был бы, мучимый сомнениями и самокритикой, по меньшей мере выйти за рамки предоставленного ему времени и отказаться от игры. Точно так же обстоит дело и с человеком, который поставлен перед вопросом о смысле жизни; он также может поставить этот вопрос - если этот вопрос вообще имеет смысл - лишь в отношении конкретной ситуации и своей конкретной личности; более того, было бы ошибочным, если бы он вбил себе в голову, что должен сделать абсолютно лучшее, вместо того чтобы просто попытаться это сделать. Конечно, он должен стремиться к лучшему, иначе у него не вышло бы и хорошего; но одновременно он должен уметь и отказываться от более чем просто асимптотического достижения цели.
Подводя суммарный итог всему сказанному выше о смысле жизни, коснемся радикальной критики вопроса как такового. Вопрос о смысле жизни вообще лишен смысла, так как он поставлен неверно, если имеет в виду жизнь "вообще", а не конкретно "именно мое существование". Если мы начнем речь издалека, с осмысления мира, тогда нам придется дать вопросу о смысле жизни коперниковский поворот: жизнь сама есть то, что задает человеку вопросы. Ему не надо спрашивать; скорее, он сам - спрашиваемый, тот, кто отвечает перед жизнью, держит перед ней ответ. Ответы же, которые дает человек, могут быть лишь конкретными ответами на конкретные "жизненные вопросы". В ответственности жизни и осуществляется ответ на них, в самом существовании человек реализует ответы на поставленные его существованием вопросы.
Вероятно, было бы уместным указать здесь, что психология развития показывает, что "извлечение смысла" свойственно более высокой ступени развития, чем "дача смысла" (Шарлотта Бюлер). Таким образом то, что мы попытались выше логически развить - кажущийся парадоксальным примат ответа над вопросом, - полностью соответствует психологическому развитию. Он основывается на самоузнавании человека как каждый раз уже спрошенного. Тот же самый инстинкт, который, как мы видели, подводит человека к его самым сокровенным жизненным задачам, руководит им и при ответе на жизненные вопросы. Этот инстинкт - совесть. Совесть имеет свой голос и разговаривает с нами - это неопровержимый феноменальный факт. Но голос совести - это каждый раз ответ. Религиозный человек, с точки зрения психологии, оказывается тем, кто вместе со сказанным воспринимает и говорящего, т. е. является более "яснослышащим", чем человек нерелигиозный: в разговоре со своей совестью - в этом интимнейшем разговоре с самим собой, какой только бывает, - его партнером является Бог.
Читать дальше