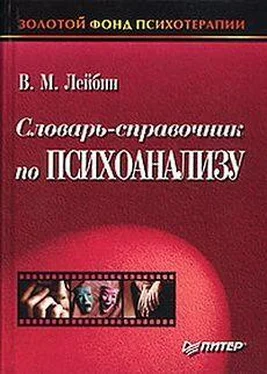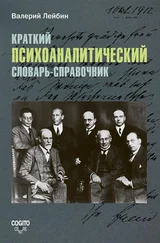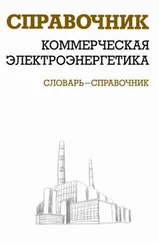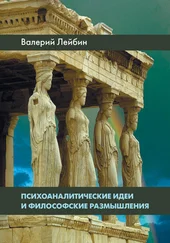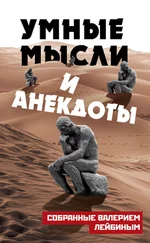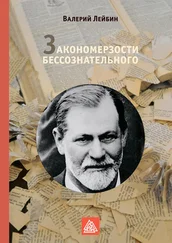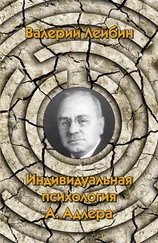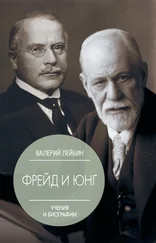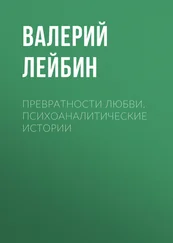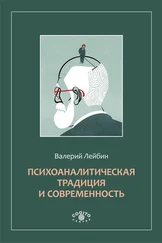Вспоминаю, как в конце 70-х – начале 80-х гг. при обсуждении и защите докторской диссертации мне пришлось ссылаться на толковый словарь В. Даля, чтобы обосновывать правомерность перевода на русский язык английского термина «Self» как «Самость», поскольку последний термин вызывал у некоторых коллег протест против «явно нерусского использования зарубежного понятия». В начале 90-х гг., когда меня попросили дать отзыв на рукопись перевода на русский язык одной из зарубежных психоаналитических работ, я предложил организаторам публикации вместо названия «Анализ Я» использовать выражение «Анализ Самости» (The Analysis of the Self), что было встречено без большого энтузиазма. Но в настоящее время выражение «психология Самости» не вызывает у российских психоаналитиков особого раздражения, более того, оно нашло отражение в переведенном с английского языка словаре психоаналитических терминов и понятий под редакцией Б. Мура и Б. Файна.
Тем не менее знакомство российского читателя с психоаналитической литературой до сих пор порождает трудности концептуального понимания, поскольку в различных изданиях используются такие понятия, как «эгопсихология» или «психология Я», «Я-психология» или «психология Самости». Первые два понятия фигурируют в работах, описывающих идеи А. Фрейд и Х. Хартманна, вторые – при рассмотрении концепций Х. Кохута. Российским психоаналитикам и переводчикам зарубежной психоаналитической литературы предстоит не простая работа по прояснению используемой на русском языке терминологии с целью избежания возможных неточностей и двусмысленностей.
Лингвистические трудности постижения смысловых значений фрейдовских понятий дают знать о себе как при раскрытии их содержательных импликаций, так и при переводе на русский язык соответствующих терминов из англоязычной психоаналитической литературы. Так, в одних случаях понятие «отрицание» является переводом английского «negation» («Психоаналитические термины и понятия: Словарь», 2000), в то время как в другом случае – английского «denial» (Ч. Райкрофт. «Критический словарь психоанализа», 1995). В обоих случаях отрицание рассматривается в качестве защитного механизма, однако во втором случае подчеркивается, что отрицание («denial») не следует путать с отказом («negation»), представляющим собой процесс, посредством которого болезненное восприятие или мысль допускаются в сознание в отрицательной форме.
И еще одно. Не следует думать, что неоднозначность в переводе одних и тех же терминов на русский язык обусловлена личными пристрастиями переводчиков или научных редакторов соответствующих изданий, хотя и это тоже может иметь место. В действительности существуют трудности, вызванные к жизни, с одной стороны, «стандартизацией» переводов работ З. Фрейда с немецкого языка на английский, что способствовало систематизации и структуризации психоаналитических концепций, но лишило их живости и образности, а с другой стороны, «технизацией» психоанализа, нашедшей отражение в современном психоаналитическом лексиконе, в результате чего с трудом приходится пробираться через нагромождение терминологических новообразований, прежде чем доберешься до сути того, что хотел сказать аналитик в своем исследовании, хотя на самом деле порой за наукообразной вязью слов оказываются тривиальные мысли, а подчас и их отсутствие.
Англоязычная «стандартизация» привела к стерильности и упрощению многих психоаналитических представлений З. Фрейда о многозначности психических структур и процессов, но не устранила, а, напротив, в большей степени, чем ранее, обнажила противоречия между теорией и практикой психоанализа. И хотя в рамках современного психоанализа до сих пор остаются дискуссионными вопросы по поводу того, как, каким образом и с помощью каких средств, включая «технизацию» понятийного аппарата, можно избежать соответствующих противоречий, тем не менее в этих дискуссиях редко находит отражение понимание того, что противоречивость психоанализа, имеющего дело с бессознательными желаниями и не менее бессознательными защитными механизмами человека, отражает глубинные пласты противоречивости человеческого существования.
Широко распространенная «технизация», отражающая рационалистическую тенденцию развития человечества, за которой скрыты, как показали психоаналитические исследования, бессознательные стремления человека быть сверхразумнее и сверхсильнее жизненного организующего начала в мире, привела к такому направлению развития психоанализа, в рамках которого он (психоанализ) оказался втянутым в «технизацию» аналитических понятий, концепций, техник лечения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что психоаналитики используют труднодоступный для перевода с одного языка на другой «психоаналитический жаргон», который воспринимается нормальным, но не посвященным в святая святых психоанализа человеком не иначе, как «язык инопланетян».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу