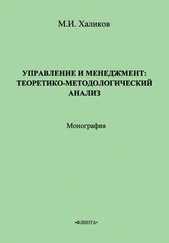Кажется, наступает такой период развития отечественной психотерапии, когда главные дифференциации в ней будут проходить не по линиям методологии, теории и техники, а по философско-антропологическим водоразделам. Наступает и наступило уже время выбора, время философского самоопределения, когда каждый психолог и психотерапевт, всерьез относящийся к профессии, должен будет дать отчет в своем уповании.
Этот текст — как открытое письмо, он обращен ко всем коллегам-психотерапевтам, но внутренне адресован тем, кто сделал свой выбор в пользу христианской антропологии. Сам такой выбор автоматически не предрешает, какой может стать христианская психотерапия, как выбор площадки для строительства дома, даже наилучшей, не заменит трудов по проектированию и строительству.
В среде отечественных психологов-христиан есть две крайности. В одном случае в существующих психотерапевтических школах обнаруживается уже состоявшаяся христианская психотерапия (см., например, Занадворов, 1994), и дело лишь за тем, чтобы объяснить адептам психосинтеза, гештальттерапии и пр., что они, сами того не ведая, давно говорят христианской прозой. В другом — психотерапия рассматривается на фоне неисчислимых духовных богатств, глубины, подлинности церковного опыта и объявляется пустым, ничтожным, а то и бесовским занятием. Тот, кто верит, что психотерапия может быть настоящим духовным служением, оставаясь при этом и настоящей профессией, должен избрать третий путь — сохраняя трезвую и ясную духовную позицию, бережно и с уважением отнестись к исторически пройденному психотерапией пути, и как знать, не окажется ли она вопреки своему принципиальному секуляризму, а то и атеизму, в условиях современной культуры «детоводительницей» [30] [30] «Детоводительницей» ко Христу называли греческую философию христианские богословы Климент Александрийский и св. Иустин Философ. — Прим. ред.
к христианской психотерапии.
Предмет данной главы — история психотерапевтических упований. Поясню смысл термина. Когда врач лечит больного, он рассчитывает, что лечебные мероприятия вызовут ответный процесс в организме, который, собственно, и приведет пациента к здоровью. Учитель не думает, что его объяснения сами по себе произведут в голове у ученика знания, он рассчитывает на ответный процесс понимания. Так во всяком деле — ведь и скрипач убежден, что струна отзовется. Словом, организм ли, ум ли, инструмент ли развивают в ответ на усилия человека некий процесс, упование на который составляет необходимое внутреннее условие успешной человеческой деятельности. В психотерапии, в соответствии с этой логикой, «упованием» можно обозначить тот главный механизм, основной продуктивный процесс, который непосредственно обеспечивает достижение терапевтических целей.
В каждой психотерапевтической школе есть своя теория, метатеория, своя мифология, технология и другие элементы и плоскости, но сердцевина всего этого сложного состава — именно «упование». Если бы в одночасье исчезли все бесчисленные книги по психоанализу и упразднилось все разветвленное психоаналитическое знание, а осталось бы лишь его упование — идея об исцеляющей силе осознания, то по одной этой идее можно было бы восстановить всю теорию и технику психоанализа. Напротив, извлеки эту идею из психоанализа, и вся его грандиозная постройка рухнет, превратившись в безжизненную груду лишенных смысла фактов.
Пытаясь наметить основные вехи истории психотерапевтических упований, мы будем анализировать соответствующие механизмы и процессы не с теоретической или технической стороны, а со стороны философско-антропологической.
Основной процесс, который по представлению 3. Фрейда обеспечивает психотерапевтический эффект, — осознание. Весь психоанализ есть борьба за то, чтобы «на место Оно стало Я». Эта постановка «Я» на место «Оно» состоит не столько в расширении сознания, как принято считать, сколько в расширении воли. Психотерапевтическое благо заключается, прежде всего, в том, что «Я» в результате анализа перестает быть марионеткой, за ниточки которой дергает «Оно», а само становится центром волений. Пусть желания по-прежнему исходят из «Оно», но «Я» избавляется от деспотии «Оно», тем более жестокой и разрушительной, что она осуществлялась негласно, с помощью подставных лиц. Психоанализ проливает свет разума на все эти закулисные махинации, разоблачает все замаскированные фигуры, обнажает все подпольно действовавшие силы, и «Я» может теперь сознательно и свободно принимать решения о том, какой из импульсов реализовать, а какому отказать в реализации. (В скобках замечу, что когда подходишь мыслью к этому торжественному моменту психоанализа, к этому венцу долгих и долгих психоаналитических усилий, то становится по-человечески жалко бедное «Я». Заговор раскрыт, маски сорваны, тайное стало явным, все кончено… Но ведь дальше нужно жить, а жить придется все с теми же подпольными фигурами, которые пытались обмануть «Я», обойти цензуру и заставить «Я» служить своим интересам. В этой открывшейся новой жизни, освещенной холодным психоаналитическим светом, прозревшему «Я» предстоит добровольно сотрудничать с теми же силами, которые еще так недавно они вместе с психоаналитиком преследовали и вот, наконец, разоблачили, приперли к стенке, — ведь других-то содержаний в сознании нет. Азарт и колорит детектива — улики симптомов, тайнопись сновидений, обрывки свидетельских показаний в свободных ассоциациях, блеск остроумных толкований, на зависть Бейкер-стрит чудесно склеивающих осколки фактов в одну неопровержимую логическую цепь, — все это так бесцветно и уныло заканчивается, так много в психоаналитическом знании печали и так мало чего-то ободряющего и окрыляющего, что более чем понятна взаимная тенденция и пациента, и аналитика длить и длить психоаналитический «сериал», добавляя серию за серией. Не в одной сложности душевных процессов дело.)
Читать дальше