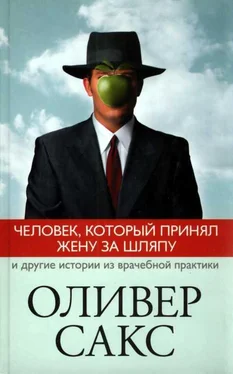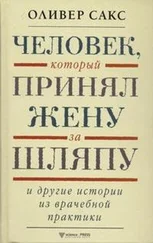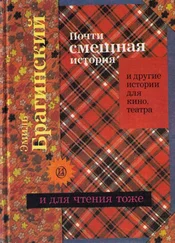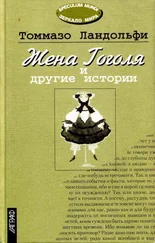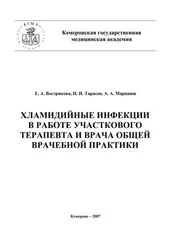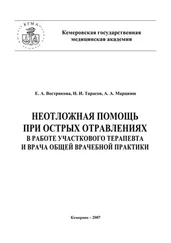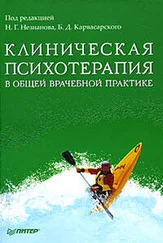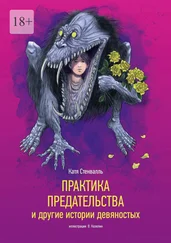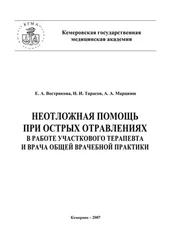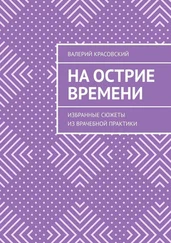А не связаны ли трудности профессора, подумал я, с нереальностью целлулоидной голливудской вселенной? Возможно, он лучше справится с лицами, которые составляют часть его собственной жизни. На стенах квартиры висели фотографии — родственников, коллег, учеников и его самого. Я собрал снимки в стопку и, предчувствуя неудачу, стал ему показывать. То, что можно было счесть шуткой или курьезом в отношении фильма, в реальной жизни обернулось трагедией. В общем и целом П. не узнал никого — ни членов семьи, ни учеников, ни коллег, ни даже себя самого. Исключение составил Эйнштейн, которого профессор опознал по усам и прическе. Подобное же произошло и с парой других людей.
— Ага, это Пол! — заявил П., взглянув на фотографию брата. — Квадратная челюсть, большие зубы — я узнал бы его где угодно!
Но Пола ли он узнал — или же одну–две его черточки, на основании которых догадался, кто перед ним?
Если особые приметы отсутствовали, П. совершенно терялся. При этом проблема была связана не просто с познавательной активностью, с гнозисом, но с общей установкой. Даже лица родных и близких П. рассматривал так, словно это были абстрактные головоломки или тесты, — в акте взгляда не возникало никакого личного отношения, не происходило акта узревания. Вокруг него не было ни единого знакомого лица — ни одно из них он не воспринимал как «Ты», и все они виделись ему как группы разрозненных черт, как «Это». Таким образом, имел место формальный, но не личностный гнозис. Отсюда же проистекало слепое безразличие П. к выражениям лиц. Для нас, нормальных людей, лицо есть проступающая наружу человеческая личность, персона [12] Романский корень person , означающий личность, ведет свое происхождение от латинского persona (лицо).
. В этом смысле П. не видел человека — ни лица, ни личности за ним.
По дороге к П. я зашел в цветочный магазин и купил себе в петлицу роскошную красную розу. Теперь я вынул ее и протянул ему. Он взял розу, как берет образцы ботаник или морфолог, а не как человек, которому подают цветок.
— Примерно шесть дюймов длиной, — прокомментировал он. — Изогнутая красная форма с зеленым линейным придатком.
— Верно, — сказал я ободряюще, — и как вы думаете, что это?
— Трудно сказать… — П. выглядел озадаченным. — Тут нет простых симметрии, как у правильных многогранников, хотя, возможно, симметрия этого объекта — более высокого уровня… Это может быть растением или цветком.
— Может быть? — осведомился я.
— Может быть, — подтвердил он.
— А вы понюхайте, — предложил я, и это опять его озадачило, как если бы я попросил его понюхать симметрию высокого уровня.
Из вежливости он все же решился последовать моему совету, поднес объект к носу — и словно ожил.
— Великолепно! — воскликнул он. — Ранняя роза. Божественный аромат!.. — И стал напевать «Die Rose, die Lillie…»
Реальность, подумал я, доступна не только зрению, но и нюху…
Я решил провести еще один, последний эксперимент. Была ранняя весна, погода стояла холодная, и я пришел в пальто и перчатках, скинув их при входе на диван. Взяв одну из перчаток, я показал ее П.
— Что это?
— Позвольте взглянуть, — попросил П. и, взяв перчатку, стал изучать ее таким же образом, как раньше геометрические фигуры.
— Непрерывная, свернутая на себя поверхность, — заявил он наконец. — И вроде бы тут имеется, — он поколебался, — пять… ну, словом… кармашков.
— Так, — подтвердил я. — Вы дали описание. А теперь скажите, что же это такое.
— Что‑то вроде мешочка…
— Правильно, — сказал я, — и что же туда кладут?
— Кладут все, что влезает! — рассмеялся П. — Есть множество вариантов. Это может быть, например, кошелек для мелочи, для монет пяти разных размеров. Не исключено также…
Я прервал этот бред:
— И что, не узнаете? А вам не кажется, что туда может поместиться какая‑нибудь часть вашего тела?
Лицо его не озарилось ни малейшей искрой узнавания [13] Позже он случайно надел ее и воскликнул: «Боже мой, да это же перчатка!» Это напомнило мне о пациенте Курта Голдштейна по имени Ланути, который узнавал объекты, только пытаясь использовать их в действии. (Примеч. автора.)
.
Никакой ребенок не смог бы усмотреть и описать «непрерывную, свернутую на себя поверхность», но даже младенец немедленно признал бы в ней знакомый, подходящий к руке предмет. П. же не признал — он не разглядел в перчатке ничего знакомого. Визуально профессор блуждал среди безжизненных абстракций. Для него не существовало зримого мира — в том же смысле, в каком у него не было зримого «Я». Он мог говорить о вещах, но не видел их в лицо. Хьюлингс Джексон, обсуждая пациентов с афазией и поражениями левого полушария мозга, говорит, что у них утрачена способность к «абстрактному» и «пропозициональному» мышлению, и сравнивает их с собаками (точнее, он сравнивает собак с афатиками). В случае П. произошло обратное: он функционировал в точности как вычислительная машина. И дело не только в том, что, подобно компьютеру, он оставался глубоко безразличен к зримому миру, — нет, он и мыслил мир как компьютер, опираясь на ключевые детали и схематические отношения. Он мог идентифицировать схему, как при составлении фоторобота, но совершенно не ухватывал стоящей за ней реальности.
Читать дальше