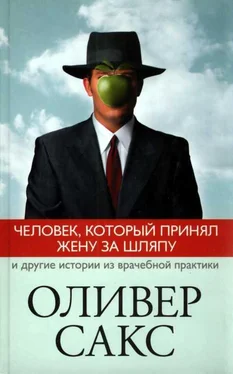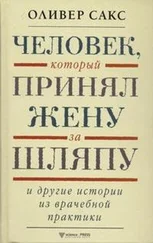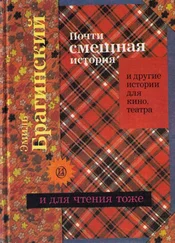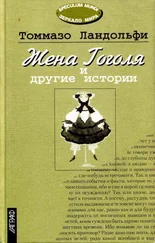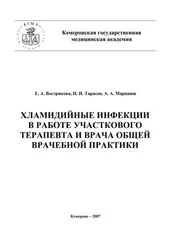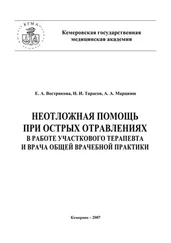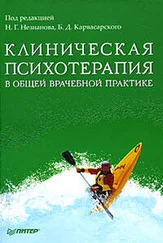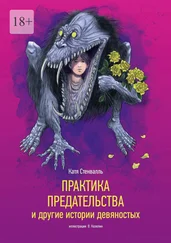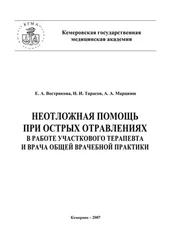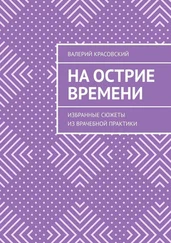— Зачем она ушла?! — выкрикнула Ребекка и добавила: — Я плачу не о ней, а о себе. — И потом, после паузы: — С бабулей все в порядке. Она в своем Долгом Доме.
Долгий Дом! Был ли это ее собственный образ или подсознательный отклик на слова Экклезиаста?
— Мне так холодно, — продолжила она, вся съежившись, — но это не снаружи. Зима внутри. Холодная, как смерть. — И закончила: — Бабушка была частью меня. Часть меня умерла вместе с ней.
Это было настоящее горе, и Ребекка проявлялась в нем как полноценная личность, завершенная и трагичная, без намека на умственную отсталость.
Через полчаса к ней начали возвращаться тепло и жизнь, и, слегка оттаяв, она сказала:
— Сейчас зима. Я мертва, но знаю, что снова будет весна.
Ребекка была права: целительная работа скорби протекала медленно, но рана постепенно затягивалась. Очень помогла старая тетка, сестра умершей бабушки, теперь переехавшая к Ребекке. Помогала и синагога, религиозная община, и прежде всего обряд шива и особое положение «скорбящей». Надеюсь, ей приносили какое‑то облегчение откровенные беседы со мной. Наконец, помогали сны, которые она с живостью пересказывала. Сны эти в точности следовали известным стадиям заживления душевной раны [114] См. Петере Л. Р. «Роль снов в жизни умственно отсталых». Ethos, 1983. С. 49–65. (Примеч. автора.)
.
Так же четко, как апрельский образ чеховской героини, в память мне врезался ноябрьский день на унылом кладбище в Квинсе [115] Район Нью–Йорка.
и трагическая фигура молодой женщины, читающей кадиш на могиле бабушки. Молитвы и библейские истории всегда привлекали Ребекку, согласуясь с радостной, поэтической, «блаженной» стороной ее жизни. Теперь же в похоронных молитвах, в 103–м псалме и особенно в кадише, она нашла единственно правильные слова скорби и утешения.
Между апрелем и ноябрем Ребекка, как и многие наши «клиенты» (двусмысленное, но модное тогда наименование, считавшееся якобы менее унизительным, чем «пациенты»), участвовала в разнообразных групповых занятиях и проходила курс трудотерапии. Это составляло часть нового, тоже входившего в моду движения «за развитие познавательных способностей». Для большинства пациентов, включая Ребекку, все это было совершенно бесполезно и даже вредно, так как мы только лишний раз ставили их лицом к лицу с теми же самыми ограничениями, на которые они бессмысленно и мучительно наталкивались всю жизнь.
Мы обращаем слишком много внимания на дефекты наших пациентов и слишком мало — на сохранившиеся способности; Ребекка первая указала мне на это. Еще раз прибегнув к техническому жаргону, можно сказать, что нас слишком сильно занимает «дефектология» и слишком слабо — «нарратология», забытая и совершенно необходимая наука о конкретном.
Ребекка стала для меня живым примером существования двух диаметрально противоположных типов мышления — «парадигматического» и «повествовательного» [116] Терминология Брунера. (Примеч. автора.)
. Оба они одинаково естественны и присущи сознанию, но повествовательное мышление развивается раньше и обладает приоритетом в формировании души и личности. Маленькие дети любят истории и способны уловить их сложное содержание, в то время как восприятие формальных концепций им еще недоступно. Там, где абстрактная мысль бессильна, именно повествовательность дает ощущение мира — восприятие конкретной реальности в форме символа или рассказа. Ребенок понимает Библию раньше, чем Евклида, и не потому, что Библия проще (скорее, наоборот), а потому, что она представлена в образной и сказовой форме.
В этом смысле права была бабушка, говоря, что Ребекка в свои девятнадцать была совсем ребенком. И все‑таки Ребекка была не только ребенком, но и взрослой девушкой. (Термин «умственно отсталый» подразумевает недоразвитого ребенка; термин «умственно неполноценный» — неполноценного взрослого; в каждом из этих понятий содержится одновременно глубокая истина и серьезная ошибка). У умственно неполноценных пациентов, имеющих, как Ребекка, условия для личностного роста, могут ярко развиться эмоциональные и художественные способности. В Ребекке, к примеру, живо проявился поэтический дар, в Хосе (см. главу 24) — врожденные живописные таланты. Абстрактные же способности таких пациентов, с самого детства выраженные очень слабо, развиваются медленно и мучительно и с возрастом могут достичь лишь определенного, весьма низкого «потолка». Сама Ребекка хорошо осознавала это и смогла наглядно продемонстрировать при первой же нашей встрече, рассказав о том, как вся неуклюжесть и стесненность ее движений, стоит зазвучать музыке, тут же сменяется грацией и свободой. Более того, я увидел это воочию, наблюдая, как в естественной обстановке общения с природой, в эстетическом и драматическом единстве весеннего дня она обретала целостность и свободу движений.
Читать дальше