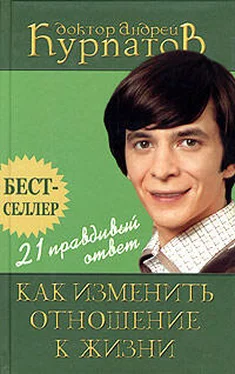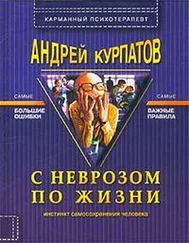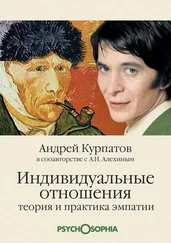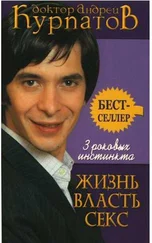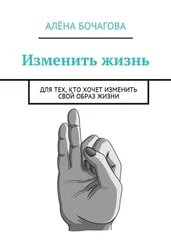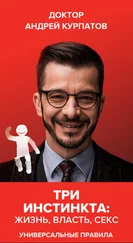Первым делом нам предстояло выявить и развенчать иллюзию опасности, которая и была во всем произошедшем повинна. Паральлельно мы с Натальей заново учились дышать, по-иному реагировать на мать, иначе воспринимать изменение ее социального и семейного статуса. Короче говоря, необходимо было начинать жить заново: избавляться от невротического симптома, изживать прежний стресс и находить новые жизненные стратегии, способные предупредить возникновение подобных состояний. Как-никак, достаточна скоро ей предстояло перебираться на «туманный Альбион», к дочери и внучке, а ведь это тоже стресс… Впрочем, если помнить об иллюзорности опасности, с одной стороны, и ее пагубности другой, можно переезжать жить хоть на Северный полюс.
Так ли велика опасность ?
К сожалению, мы слишком серьезно относимся ко всем своим «напастям», «опасностям» и «угрозам». Мы драматизируем все и вся, мы, если анализировать содержание наших страхов, «умираем» по десять раз на дню. И при этом как ни в чем не бывало каждый вечер благополучно отходим ко сну. Мы готовы переживать из-за каждой ерунды так, словно бы это вопрос жизни и смерти. Но, Бог мой, когда последний раз вы решали вопрос жизни и смерти?! Решали ли вы его вообще?
Невротическая тревога строит тесный замок уверенности, который можно защищать и который действительно защищается с крайним упорством. В этом замкнутом пространстве способность человека спрашивать не допускается к актуализации; а если возникает опасность ее актуализации за счет вопросов, задаваемых извне, то невротик защищается фантастическим отвержением вопроса. Неспособность невротика к полноте встречи с реальностью делает его сомнения, как и его уверенность, нереалистичными. И его сомнение, и его уверенность — «замещенные», они направлены не туда, куда следует.
Пауль Тиллих
Все, что мы считаем «трагедиями», «катастрофами», «концом света» и т.п., на деле оказывается лишь очередным зигзагом судьбы. И ничем более! Сколько было таких зигзагов!Сколько раз мы лишались сна, не могли сосредоточиться, собраться, адекватно реагировать! И все из-за чего? Из-за того, что нам казалось, что это конец. И где он? Теперь нам кажется смешным, как мы переживали, когда родители тащили нас в детский сад. Нам кажется забавным, что от страха за невыполненное домашнее задание, за несданный зачет или экзамен мы сходили с ума и были готовы молиться всем святым, только бы… «Только бы» — что?! А как мы переживали, когда временно оказывались безработными. А как мы убивались, когда наша любовь оказывалась неразделенной. А как, наконец, мы можем тревожиться, «потеряв» своего ребенка или престарелого родителя, который или не отзвонился, УЙДЯ на вечеринку, или не услышал нашего звонка из-за слишком громко работающего телевизора! Ну что тут еще говорить…
Но мы-таки переживаем каждое событие — случившееся или только могущее случиться — так, слов но бы это последний аккорд и финал нашей судьбы. Какие бы трагедии нам ни довелось пережить, мы их переживем, оклемаемся — плохо ли, хорошо, но оклемаемся и будем продолжать жить дальше. Я подчеркиваю: любые трагедии! Без всякого преувеличения, единственной подлинной катастрофой, свалившейся на нашу голову, можно было бы считать собственную смерть. Однако же вот в чем штука: это катастрофа с которой нам никогда не придется иметь дела. По этому поводу замечательно выступил блистательный античный философ Эпикур: «Моя смерть — это та что я никогда не узнаю, то, с чем я никогда не встречусь. Ведь пока я есть — ее нет, когда она придет, меня уже не будет».
Кто боязливо забоится о том, как бы не потерять жизнь, никогда не будет радоваться ей.
Иммануил Кант
Мы безумно боимся неизвестного, в сущности, это нормальная защитная реакция: не знаешь — не лезь. А чтобы не лезть, надо бояться лезть. Страх, вообще говоря, самый эффективный способ добиться от над активных действий. Но если в нас есть хоть толика разума, разве не следует нам думать, что неизвестное — это вовсе не плохое и опасное, а неизвестное. Разве не случается так: что-то казалось нам «ужасным», «роковым», «трагичным», а на деле по истечений некоторого времени оказывается подлинной удачей? Практически во всех медицинских вузах профессор читающий студентам лекцию по сифилису, начинает ее с такой якобы личной истории: «Когда я учился на четвертом курсе института, — говорит профессор, — то был влюблен в одну девушку. Но в нее был влюблен и мой друг. Классический любовный треугольник! И вы не поверите, она выбрала его, а я остался с носом. Итак, тема лекции: „Клинические проявления сифилиса“». Конечно, если женщина предпочитает тебя другому, это кажется настоящей трагедией. Ну а если она больна сифилисом? Разве не является этот ее выбор большой личной удачей для того, кто остался с носом (в прямом смысле этого словосочетания)?..
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу