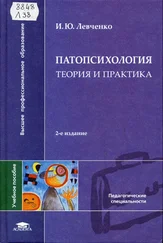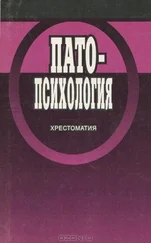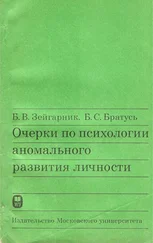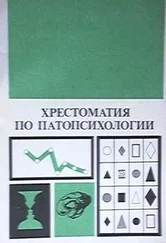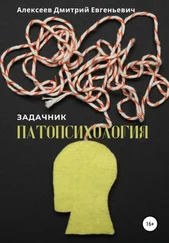Больной при восприятии рисунков с трудом отделял фигуру от фона, с трудом понимал перспективу: Иными словами, у больного была нарушена произвольная сторона акта восприятия . Аспонтанность больного была особенно ярко выражена в поведении: он сидел целыми днями на кровати, мало вступал в контакт с соседями по палате, совсем не интересовался окружающей жизнью.
На фоне этой фронтальной симптоматики, аспонтанности, непроизвольности выступают остаточные явления моторной афазии, выражающиеся в том, что его спонтанная речь несколько затруднена, в отраженной речи выступают затруднения при повторении сложной фразы. Имело место нарушение чтения — больной часто не «схватывал» слова, читал их, повторяя одно и то же слово, по догадке, забегая вперед. Например, отрывок: «Взял Паша у отца шапку. А шапка была ему велика, лезла ему на самый нос». Больной прочитывает: «Взял шапку, отец шапку, а шапка на нос, у отца шапку».
Таким образом, речевые расстройства типа лобно— афазического характера были у больного выражены ярче, чем «лобные» нарушения в деятельности. С больным была возможна работа по восстановлению речи.
Второй период начался с поднятием температуры. У больного начали нарастать общемозговые явления: из больного, хотя и аспонтанного, но с адекватным поведением, с которым возможна восстановительная работа, он превращается в заторможенного, загруженного.
Аспонтанность его достигает своего апогея. Инактивность его мыслительных процессов нарастает: те задания, при которых он раньше испытывал затруднения, сейчас становятся почти недоступными. Если он раньше, хотя и с трудом, но все же называл пять предметов красного цвета, то теперь он не в состоянии выполнить это задание; если он раньше при описании картины не мог уловить общего смысла, то теперь он совершенно не может описать ее содержание: о картине, изображающей пожар, он говорит: «Не знаю, куда-то едут».
Целенаправленное действие его заменяется персеверациями: если он рисовал подряд несколько кружков, то ему трудно перейти к рисунку треугольника. У больного наступает вследствие персеверативных тенденций, распад структуры. Наряду с персеверациями у больного резко выступает «полевое» поведение в самом выраженном виде: экспериментатор просит его передать спичку другому больному; он берет коробку, вынимает спичку и зажигает ее — требуемого действия не выполняет. Когда экспериментатор предлагает больному полотенце, чтобы вытереть руки, больной опять-таки не выполняет инструкцию: он аккуратно складывает полотенце; когда больного просят подать стакан воды, он начинает пить из него воду. Вместо целенаправленной деятельности выступают манипуляции вещами ; вместо волевого акта имеет место выполнение того, «что требует вещь».
Все поведение больного определяется, таким образом, не внутренним стимулом, существенным для данной ситуации, а лишь предназначением вещи как таковой независимо от ситуации, в которой она воспринимается больным. Это «полевое» поведение становится основным синдромом нарушения, который «покрывает» всю остальную его симптоматику. Характеризовать поведение больного такими понятиями, как инактивность, аспонтанность, становится явно недостаточным, ибо основное нарушение — это грубейшее нарушение самой структуры его деятельности. Восстановительная работа с ним становится явно невозможной, хотя афазическая симптоматика у больного не нарастала.
Таким образом, нарастание патологического процесса привело к тому, что нарушение, которое выступило вначале как обычный симптом аспонтанности, приобретает характер ярко выраженного распада структуры деятельности, штампованных действий, которые столь характерны при опухолях и травмах мозга; говоря иначе, в первом периоде нарушение мозга было скомпенсировано. Нарастающий абсцесс вследствие резкого давления, которое он оказывал на лобные доли, или вследствие отека, а может быть, и вследствие токсического влияния вызвал декомпенсацию, давшую столь пышную психопатологическую симптоматику.
Анализ данного случая позволяет осветить проблему, а именно: почему грубая симптоматика штампов, персевераций и «полевого» поведения так редко выступает при огнестрельных ранениях мозга (см.: Неврология военного времени. Под. ред. акад. Н. И. Гращенкова. М., 1949) и столь часто наблюдается при опухолях и обычных травмах мозга.
Персеверации, «полевое» поведение являются реакцией мозга в целом. Свидетельствуя о нарушении интегративной функции мозга, эта симптоматика может выступать, как мы уже отметили выше, при различных органических нарушениях, например при артериосклерозе, прогрессивном параличе; она может обнаружиться и в случаях отсутствия патологического процесса, когда речь идет лишь о функциональных динамических изменениях мозга, например при большой усталости, истощаемости. И все же несмотря на такой «диффузный», «генерализованный» характер этот симптом «полевого» поведения, персевераций является наиболее типичным при поражениях лобных долей. Нарушения глубинных личностных установок, всей системы потребностей, вызывая нарушение деятельности, порождая аспонтанность, приводят неминуемо в тяжелых случаях к крайнему выражению этой аспонтанности — к «полевому» поведению. Однако, как показывает наш материал, одного ограниченного поражения лобных долей недостаточно для вызывания столь грубой симптоматики. Даже при выраженной аспонтанности подчиняемость ситуационным моментам не принимала столь грубой формы — манипуляции вещами. «Полевое» поведение подобных больных выражалось в подчинении ситуационным моментам. Компенсаторные механизмы мозга очень велики, и потому, если травма падает на полноценный молодой мозг, она не приводит к столь грубым симптомам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу