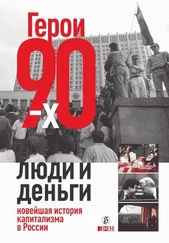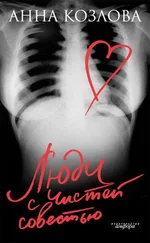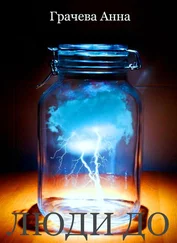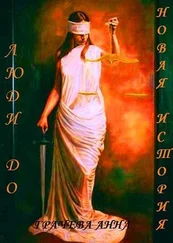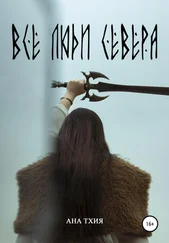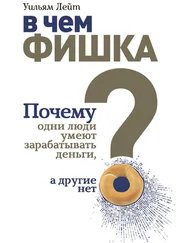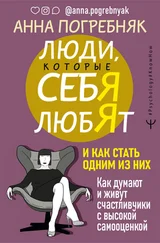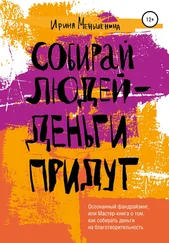Одна из наиболее модных проблем, обсуждаемых в последние годы американскими психологами, касается взаимосвязи между материализмом и так называемым субъективным благополучием или чувством общей удовлетворенности жизнью. Большинство исследователей сходятся в том, что зависимость между ними должна быть обратной: то есть чем больше человек озабочен материальными проблемами, тем он несчастнее (Belk, 1985; Richnis & Dawson, 1992). По данным многих исследователей, материализм негативно коррелирует как с общей удовлетворенностью жизнью, так и с удовлетворенностью отдельными сферами жизни: семьей, друзьями, уровнем дохода и карьерой.
Одно из объяснений было предложено Т. Кассером и Р. Рай-аном, которые рассматривают достижение материального успеха как внешнюю мотивацию, тогда как счастье и удовлетворение достигаются лишь преследованием внутренних целей — самоактуализации, привязанности, общности с группой (Kasser & Ryan, 1993). В дальнейшем Е. Диси и Р. Райан сформулировали «теорию самодетерминации», в соответствии с которой лишь преследование «внутренних» жизненных целей — таких, как личностный рост, привязанность или служение обществу, — приводит к непосредственному удовлетворению базовых психологических потребностей в автономии, принадлежности и компетентности (Deci & Ryan, 1995). Погоня же за внешними целями (деньгами, славой, властью и престижем) дает лишь опосредованное удовлетворение, а то и отвлекает человека от удовлетворения его базовых потребностей. Они объясняют индивидуальные различия в уровне материализма не пережитыми в детстве экономическими лишениями, а недостатком материнского тепла или излишней строгостью родителей, что приводит к формированию у ребенка низкой самооценки и неспособности реализовать свои базовые потребности в автономии, принадлежности и компетентности.
Сторонники этой теории, блестяще доказав ее истинность на многочисленных американских респондентах, решили обратиться к кросс-культурным сравнениям, для чего выбрали Россию, как страну «с традиционно коллективистскими ценностями, в которой смена социально-экономического устройства привела к формированию материалистических установок» (Ryan et al., 1999). Авторы исследования обнаружили, что их теория подтверждается по отношению к российским мужчинам, но опровергается по отношению к российским женщинам. Оказалось, что женщины в России, во-первых, значительно большие «материалистки», чем мужчины, в отличие от американок, которые опережают американских мужчин по предпочтению «внутренних» жизненных целей. Во-вторых, оказалось, что материализм российских женщин никак не связан с их чувством общей удовлетворенности жизнью. Российские женщины демонстрируют низкую удовлетворенность жизнью, низкую самооценку и низкий уровень самоактуализации вне зависимости от жизненных целей, которые они преследуют. И, в-третьих, российские респонденты вообще имеют более низкую самооценку и менее удовлетворены жизнью, чем американцы.
«Оно и неудивительно, — считают авторы, — ведь в предыдущих исследованиях было показано, что уровень удовлетворенности жизнью сильно зависит от общего жизненного уровня в стране» (Diener et al., 1995).
То есть сама возможность прямой зависимости между уровнем доходов и жизненной удовлетворенностью авторами признается, но почему-то лишь на «государственном» уровне. Проводя свои исследования, они упорно измеряют корреляции между «материализмом» и счастьем безотносительно к уровню материального благополучия отдельных людей.
Между тем еще Абрахам Маслоу пытался намекнуть, что так называемые потребности «низшего уровня» (пища, тепло, безопасность) обладают приоритетом над «самоактуализацией» и прочими «высокими» потребностями — по крайней мере, до тех пор, пока они не удовлетворены. Именно это, очевидно, и объясняет неудовлетворенность жизнью «материально озабоченных» респондентов не только в России, но и в любой другой стране: когда человек голоден, у него нет работы, нечем заплатить за квартиру и не на что содержать детей, главными в списке его ценностей становятся «низкие» материальные потребности, а самоактуализация отодвигается «до лучших времен». Если же «лучшие времена» отстоят от сегодняшних на несколько поколений, то о существовании этих «высших» потребностей никто уже и не вспоминает.
Кросс-культурные исследования материализма, выполненные Расселом Белком в соавторстве с турецким исследователем Гюлиз Гер (Ger & Belk, 1996) отличаются гораздо более взвешенными выводами, чем изыскания теориков «самоатрибуции». Авторы сравнивали группы студентов бизнес-школ из США, Франции, Румынии и Турции. Выяснилось, что американцы больше всех остальных респондентов склонны считать материализм слабостью и излишеством, тогда как французы считают наибольшими материалистами именно американцев, приписывая им демонстративное хвастовство нуворишей. Турки также считают материализм свойством «новых богатых», однако они не ассоциируют эту черту с американцами. Румыны в наименьшей степени из всех участников склонны считать материализм отрицательной чертой или слабостью. Румынская выборка оказалась наиболее материалистичной, на втором месте — США, на третьем — Турция. Самыми «непрактичными» оказались французы.
Читать дальше
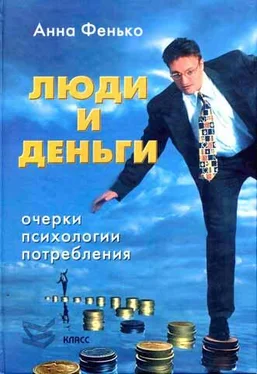
![Аня Грачева - Люди до [СИ]](/books/35092/anya-gracheva-lyudi-do-si-thumb.webp)