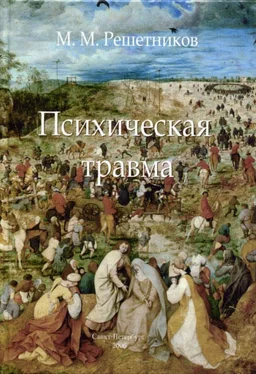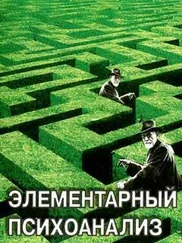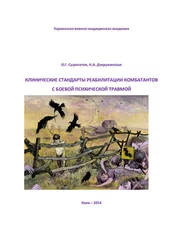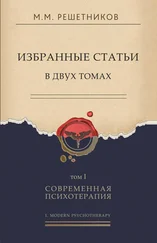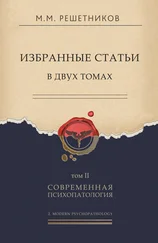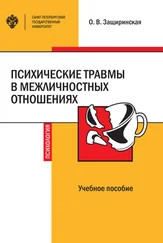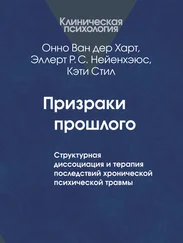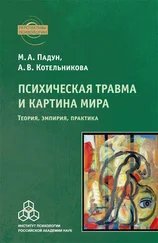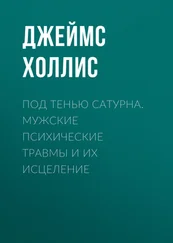Примечательно, что Россия, поддерживая международную антитеррористическую операцию политически, в ней не участвует. И хотелось бы надеяться, не будет участвовать. Это сугубо западный «проект», а Россия, как было провозглашено на последнем пленарном заседании Санкт-Петербургского диалога «Путин — Шредер» в Гамбурге (сентябрь 2004), — «это часть Европы, но не часть Запада». И слава Богу, тем более что у нас пока не предвидится проблем с природными энергоносителями. А значит, есть возможность хорошо обдумать складывающуюся в мире ситуацию. Но времени на это отпущено немного.
Сколько стоит терроризм?
Не будучи экономистом, естественно, не могу взяться за всесторонний анализ этой проблемы. Поэтому рассмотрю только более близкие мне аспекты и только с точки зрения последствий массовой психической травмы.
Мы хорошо помним, как после очередных атак террористов в социуме формировались (вполне объяснимые с точки зрения посттравматического синдрома) массовые фобии и депрессии: страх перед пользованием метро, самолетами и поездами, отправлением детей в школу, посещением популярных курортов, театров и кафе, отмена запланированных проектов, снижение работоспособности, нарушения сна и т. д. Трудно подсчитать моральный ущерб, впрочем, как и экономический, от такого ограничительного поведения. Но если исходить из экономических расчетов наших западных коллег [57] Cost-Effectiveness of Psychotherapy / Ed. by Nancy E. Miller and Kathryn M. Magruder. Oxford University Press, 1999. См. также: Решет ников M. М. Экономические и организационно-методические про блемы психотерапии // Решетников М. М. Психодинамика и психотерапия депрессий. СПб.: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 2003. С. 221–249.
, вне систематической терапии такие фобические и депрессивные проявления приводят к потере примерно 1000 долларов в месяц (в виде упущенной или неполученный выгоды) для каждого из пострадавших. И это только в процессе их собственной деятельности, независимо от того — были ли они реальными участниками трагедии или наблюдали ее на экране телевизора на удалении в тысячи километров. И это не считая экономических потерь фирм, где они работают, а также временно (до 3–6 месяцев) пустеющих аэропортов, вокзалов, театров, кафе, популярных курортов и т. д. Если умножить это на миллионы «пациентов» в социуме, нетрудно сосчитать, во сколько сотен миллиардов обходится нам каждый теракт [58] В одном из своих выступлений после 11 сентября 2001 года Бен Ладен назвал такие цифры: террористы потратили на поражение всех объектов в процессе сентябрьского теракта (2001) в США 500 тыс. долларов, а нанесенный ущерб был оценен в 500 млрд долларов, то есть — 1 млн. на каждый доллар затрат террористов.
. А если к этому добавить еще и стоимость разработки и внедрения систем защит аэропортов, кинотеатров, школ, вузов, кафе, ресторанов и магазинов, плюс подготовка и постоянное содержание персонала для этих систем, думаю, сумма удвоится. Даже не учитывая затрат на проведение военных операций возмездия.
Ладен назвал такие цифры: террористы потратили на поражение всех объектов в процессе сентябрьского теракта (2001) в США 500 тыс. долларов, а нанесенный ущерб был оценен в 500 млрд долларов, то есть — 1 млн на каждый доллар затрат террористов.
И тогда правомерно задать вопрос о том, почему мы с такой паранойяльной настойчивостью работаем только в этом направлении и лишь по остаточному принципу инвестируем наши интеллектуальные усилия и попытку понять, почему это происходит. Неужели существует только силовое решение проблемы?
Вместо заключения
Мы легко находим лидеров террористов, с которыми, оказывается, можно вести переговоры, когда захваченными оказываются известные журналисты или общественные деятели. Повторю, мы находим в этих случаев и влиятельных лидеров террористов, и нужные слова, и убедительные аргументы. Почему бы не говорить с ними чаще? Может быть, мы имеем дело с двумя подобными паранойями — с их, и с нашей стороны? Нам есть над чем подумать. Особенно, если сохранять надежду, что в нашем далеко не простом мире мы обречены не на конфронтацию, а на диалог и понимание.
Большинство книг остаются недописанными, так как автор на определенном этапе, даже сознавая, что еще далеко не все сказано, начинает ощущать некое пресыщение темой и, сознательно или подсознательно, опасается, что это же чувство может посетить и читателя. Эта книга и эта тема — не исключение. Я даже назову те разделы, которые, возможно, будут написаны в будущем — мной или другими авторами. Недостаточно раскрытыми или даже вообще только обозначенными остались: социальные травмы, дифференциальная
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу