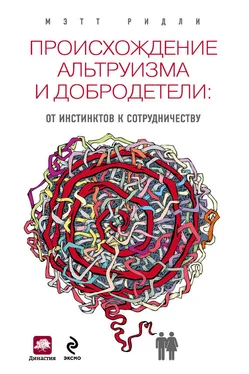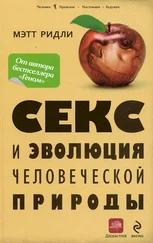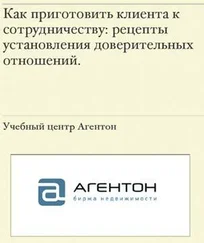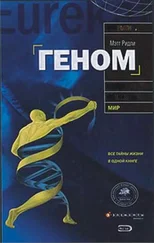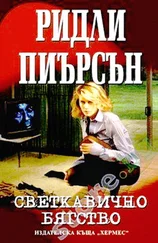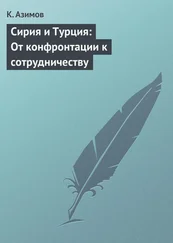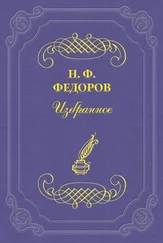1 ...5 6 7 9 10 11 ...127 В принципе, клеткам ничто не мешает функционировать по-отдельности. Многие так и делают — причем весьма успешно: например амебы и другие простейшие. Есть на Земле и чрезвычайно необычное существо, которое может быть и отдельной клеткой, и близким к грибу организмом. Речь идет, конечно, о слизевике. Он состоит приблизительно из 100 тысяч амеб, каждая из которых при обилии пищи занимается своими делами. Но едва условия становятся похуже, клетки образуют холмик, тот растет, заваливается на бок и отправляется на поиски новых пастбищ — этакий «слизень» размером с зернышко риса. Если отыскать пищу не удается, слизевик принимает форму мексиканского сомбреро: из его центра вырастает длинный, тонкий стебелек, на макушке которого формируется особый мешочек. Последний включает до 80 тысяч спор. Он раскачивается на ветру в надежде зацепиться за пролетающее мимо насекомое, которое могло бы перенести его в местечко получше. Попав в благоприятные условия, споры дадут начало новым колониям независимых амеб, а 20 тысяч образующих стебель клеток погибнут мученической смертью ради их благополучия 10.
Слизевики представляют собой конфедерации отдельных клеток, вполне способных как к самостоятельному существованию, так и к формированию временного единого организма. Если же взглянуть пристальнее, то даже отдельные клетки являются коллективами, образованными в результате симбиотического сотрудничества бактерий. Во всяком случае, так полагает большинство биологов. Каждая клетка в наших телах — дом для митохондрий, крошечных бактерий, производящих энергию. Около 700–800 миллионов лет назад они отказались от собственной независимости в обмен на спокойную жизнь внутри клеток наших предков.
Но и эта матрешка не последняя. Ибо внутри митохондрий находятся мелкие хромосомы, несущие гены, а внутри ядер клеток — более крупные хромосомы, несущие существенно больше генов (у человека 46 хромосом и около 25 тысяч генов, кодирующих белки). У людей хромосомы существуют не поодиночке, а разбиты по двое на 23 пары, хотя в принципе у других организмов хромосомы вполне могут функционировать и в одиночестве, как, например, у бактерий. То есть хромосома — это тоже пример сотрудничества, на сей раз генов. Гены могут образовывать крошечные команды примерно в 50 штук (и тогда мы называем их вирусами), но предпочитают действовать по-другому. Они, объединяясь тысячами, формируют целые хромосомы. Впрочем, даже гены не всегда бывают самостоятельными — некоторые из них несут лишь часть информации, требующей совмещения с данными других 11.
Итак, поиск примеров сотрудничества заставил нас сильно углубиться в биологию. Гены объединяются, чтобы образовать хромосомы, хромосомы — чтобы образовать геномы, геномы — чтобы образовать сложные клетки, сложные клетки — чтобы образовать организмы, а организмы — чтобы образовать колонии. Вывод: пчелиный улей — предприятие коллективное, и коллективность эта гораздо более многоуровневая, чем кажется на первый взгляд.
В середине 1960-х годов в биологии произошла настоящая революция, главными зачинщиками которой стали Джордж Уильямс [12] Уильямс, Джордж Кристофер (1926–2010) — известный американский биолог-эволюционист. — Прим. переводчика.
и Уильям Гамильтон [13] Гамильтон, Уильям Дональд (1936–2006) — английский биолог-эволюционист, считается одним из выдающихся мыслителей-эволюционистов XX века. — Прим. переводчика.
. Она именуется знаменитым эпитетом, предложенным Ричардом Докинзом — «эгоистичный ген». В ее основу положена идея, что в своих поступках индивиды, как правило, не руководствуются ни благом группы, ни семьи, ни даже собственным. Всякий раз они делают то, что выгодно их генам, ибо все они произошли от тех, кто делал то же самое. Ни один из ваших предков не умер девственником.
И Уильямс, и Гамильтон — оба натуралисты и одиночки. Первый, американец, начинал свою научную карьеру как морской биолог; второй, англичанин, считался вначале специалистом по общественным насекомым. В конце 1950-х — начале 1960-х Уильямс, а затем и Гамильтон выдвинули аргументы в пользу нового, ошеломляющего подхода к пониманию эволюции в целом и социального поведения в частности. Уильямс начал с предположения, что для тела старение и смерть — вещи весьма контрпродуктивные, но зато для генов программирование старения после размножения совершенно логично. Следовательно, животные (и растения) устроены таким образом, чтобы совершать действия, выгодные не себе и не своему виду, а генам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу