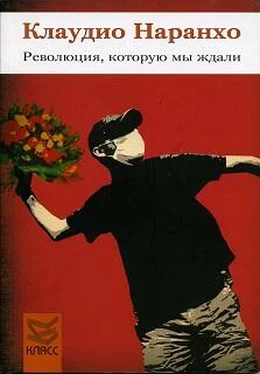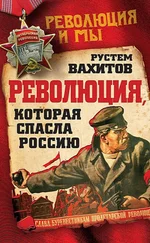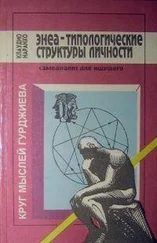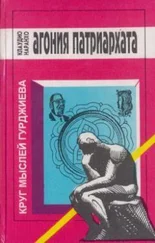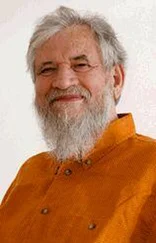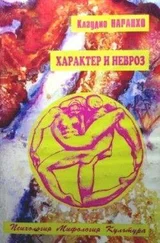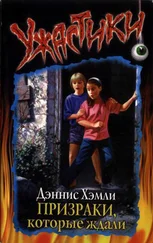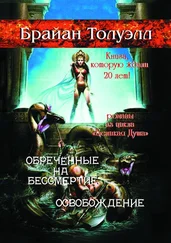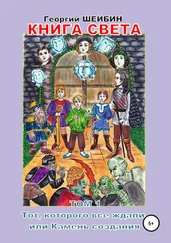Ученым полноценная жизнь не всегда дается. Даже когда они хотят сформулировать свои идеи об этических, эстетических или религиозных вопросах, они всегда напоминают второсортных мыслителей, выдающих сомнительные истины — может быть, правильные, а может быть, и нет… Кому-то высказывания Канта об эстетике могут показаться немного нелепыми. Или суждения Гегеля. Самые великие философы произносят банальности. В отличие от них изречения святых, побуждаемые любовью, или великих творцов — это мы ценим как первоисточник. То, что говорит Бетховен об эстетике, мы считаем авторитетным мнением, потому что оно идет от «компетентного органа»: гений, создавший музыку, понимает её.
Поэтому, мне кажется, науке ради истины придется расстаться с «наукообразием». Я называю так высокомерие, которое исторически возникло в науке, когда произошел знаменитый раскол с верой, что у нас ассоциируется с эпохой Просвещения — веком Канта и Вольтера. Когда с помощью ясного ума здравомыслящих людей были свергнуты короли и поставлены под сомнение, как никогда раньше, границы церковной власти, рациональное мышление почувствовало себя освобождённым. Но единственным способом, которым разум смог одержать победу над доводами веры (доводами, окутанными церковным авторитаризмом), было развитие соответствующего авторитаризма на противоположном полюсе, и таким образом, религиозный догматизм был побежден доктринерством разума тех, кто верит только в разум.
На заднем плане догматизма находится власть, та же самая патриархальная власть. Кажется, что весь мир стал пленником преобладающей линии поведения, ставшей пороком, от которого не могут спастись ни отдельные личности, ни культуры. «Вот это правда», — говорят одни, а другие отвечают: «Нет, вот это правда». — «Я прав». — «Нет, я прав». У нас очень мало способности к синтезу и мало понимания, что, может быть, было бы полезным, как и очевидным, что как у нас есть правое и левое полушарие, так у нас есть разум и интуиция, и не надо противопоставлять их, считая, что одно прямиком ведет к правде, а другое — наоборот. Не будет ли более дальновидной идея, что большие полушария нашего мозга обрабатывают информацию о нашей внутренней жизни и окружающей среде немного разными способами, подобно тому, как наши глаза видят предметы немного под разными углами, тем самым позволяя нам видеть объемную картину? Многие люди, наверняка, могли мыслить так — лучшие ученые: Шредингер, Уильям Джемс…
Уильям Джемс верил в самые, казалось бы, сумасшедшие вещи, потому что был прагматиком… Он не отдавал предпочтения той или иной научной истине в смысле соответствия между утверждением и устройством вещей: для него было важнее, что правда, — это то, что работает. И его прагматизм в том и состоял: если работает вера в то, что есть более развитый мир за пределами нашего, нам стоит принять эту идею, чтобы развиваться.
Но хотя великие ученые часто были открытыми людьми, проявляющими любознательность и рвение к знаниям, чей ум не был замутнен специальными догмами, в науке, учитывая её престиж в современной культуре, появился какой-то нарост — надменность разума по отношению ко всему предполагаемо иррациональному, что считается недостойным науки и с фанатизмом отвергается патриархальной властью. И поэтому в нашей атеистической культуре нельзя использовать такие слова, как дух или любовь, это в академическом мире считается дурным тоном. А когда в языке нет места очень важным для жизни вещам, жизнь сужается, а язык ставится элементом репрессии.
Я думаю, что авторитет знаний очень помог когда-то, в прежние времена, освободиться от гнёта церкви и бороться за свободу мысли, но в данный момент наука сама сделалась догмой, подразумевающей, что только научное истинно, и только на сведения авторитетных ученых стоит обращать внимание.
В конце моего обучения медицине я захотел написать дипломную работу по иннервации эпифиза, чтобы понять, какие физиологические проявления могли бы соответствовать анатомическим нарушениям, и обратился на тот момент к знаменитому ученому, чтобы он разрешил мне работать в его лаборатории под его руководством. Однако он постарался убедить меня, что мне следует заниматься совсем не тем, чем я хотел, а посоветовал мне изучать отдельные нервные волокна в одном из ганглиев таракана. Представьте, я мог бы провести десятки лет, занимаясь нейрофизиологией таракана, делая, как и тот ученый, открытие за открытием, но я не жалею, что пошел другим путем.
Читать дальше