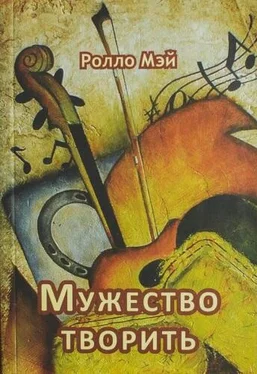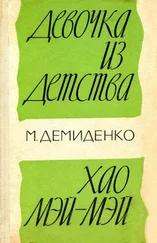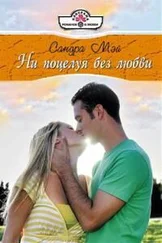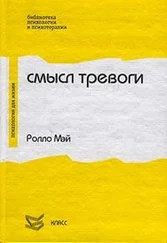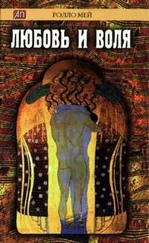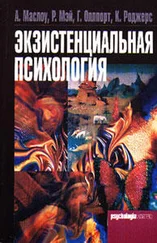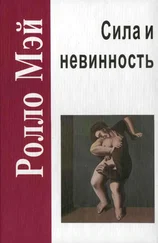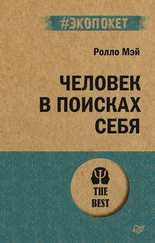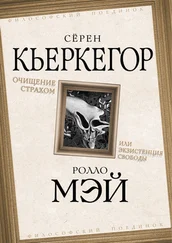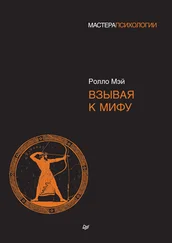Возьмем, к примеру, Джотто, художника Проторенессанса, чей талант расцвел в XIV столетии. В отличие от плоской, двухмерной живописи средневековья, Джотто создал новый способ изображения: он дал своим образам третье измерение. Благодаря ему, мы видим на полотне живые фигуры людей и животных, которые вызывают у нас человеческие эмоции: печаль, сочувствие, сожаление или радость. Двухмерная средневековая церковная живопись была предназначена не для человека — она обращалась непосредственно к Богу. Для Джотто присутствие зрителя необходимо, его картины приглашают человека занять индивидуальную позицию по отношению к образу. Таким образом, уже в эпоху Проторенессанса родился новый гуманизм и новый подход к природе, который стал основой для всего искусства Ренессанса. Пытаясь понять символику искусства, мы попадаем в мир, где размываются принципы нашего обычного, сознательного мышления. Эта задача полностью выходит за рамки логики. Мы попадаем в область бесчисленных парадоксов. Возьмем, например, мысль, выраженную в четырех последних строчках 64 сонета Шекспира:
Все говорит о том, что час пробьет —
И время унесет мою отраду.
А это — смерть!.. Печален мой удел.
Каким я хрупким счастьем овладел! [2] Шекспир. Сонеты / Перевод С. Я. Маршака. — Ред.
Мы, привыкшие руководствоваться принятой в нашем обществе логикой, непременно спросим: "Почему печален его удел? Почему его не радует любовь?" Именно так логика подталкивает нас в направлении приспосабливания — приспосабливания к безумному миру и безумной жизни. И хуже всего то, что мы отчуждаемся от той глубины переживания, которая выражена в сонете Шекспира.
Все мы порой испытываем подобные чувства, но стараемся скрыть это. Иногда, вглядываясь в ослепительные краски осеннего леса, мы готовы заплакать; слушая прекрасную музыку, мы переполняемся грустью. И тут же трусливая мысль вплывает в наше сознание: а может быть, лучше было бы вообще не видеть леса и не слышать музыки? Тогда мы бы не мучились проблемой, что "время унесет мою отраду", что все в мире смертно, что все, кого мы любим, умрут. Но быть человеком означает, что во время нашего недолгого пребывания на этой земле нам дано любить кого-то или что-то, хотя в конце концов смерть обо всех нас позаботится. Вполне понятно, что мы мечтаем продлить это короткое мгновение, отсрочить смерть хотя бы на год. Однако эта отсрочка всегда приносит лишь разочарование, и в конечном итоге мы всегда проигрываем эту борьбу.
И тем не менее, благодаря творчеству мы можем преодолеть собственную смерть. Именно поэтому творчество кажется нам столь важным, и именно поэтому нам необходимо рассмотреть проблему связи творчества и смерти.
Давайте обратимся к Джеймсу Джойсу, которого называют наилучшим современным прозаиком. В самом конце его повести "Портрет художника в юности" герой пишет в своем дневнике: "Приветствую тебя, жизнь! Я ухожу, чтобы в миллионный раз познать неподдельность опыта и выковать в кузнице моей души несотворенное сознание моего народа" [3] Д. Джойс. Портрет художника в юности / Пер. Н. П. Богословской-Бобровой // Д.Джойс. Собрание сочинений в 3 томах. Т. 1. — М.: Знак, 1993. - С. 445. - Ред.
. Здесь содержится очень глубокая мысль: "ухожу, чтобы в миллионный раз познать". Это означает, что каждая творческая встреча является новым опытом, и каждый раз необходимо проявить мужество. К творчеству можно отнести и те слова, которые Кьеркегор сказал о любви: "Каждый человек вынужден начинать сначала". То есть встреча с "истинным опытом" является основанием каждого акта творчества. Нас ожидает занятие, столь же тяжелое, как и работа кузнеца, обрабатывающего в кузнице кусок раскаленного докрасна железа: в "кузнице души" нам предстоит выковать нечто такое, что придаст ценность человеческой жизни.
Но обратим внимание на последние слова: "выковать... несотворенное сознание моего народа". Здесь Джойс говорит о том, что сознание народа не есть нечто статичное, раз и навсегда данное человеку на горе Синай, хотя история и утверждает обратное. Это сознание формируется под влиянием символов и образов, созданных художниками. Каждый настоящий художник вовлечен — иногда сам того не понимая — в сотворение "сознания народа". Художник не стремится быть моралистом — он лишь внимательно вслушивается в себя и открывает нам образы, возникающие в его воображении. Из символов, познанных и выраженных художником — так же, как открытия Джотто стали основой искусства Ренессанса, — позднее выкристаллизовывается этическая структура общества.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу