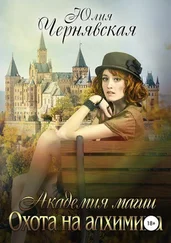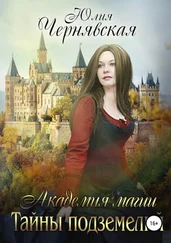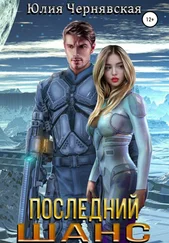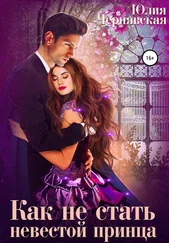Иррациональность предубеждения состоит не только в том, что оно может существовать независимо от личного опыта — никогда не видел цыган, но знаю, что они плохие, — оно даже противоречит ему. Не менее важно и то, что установка как целое фактически независима от тех специфических черт, обобщением которых она претендует быть. Что это значит? Когда люди объясняют свое враждебное отношение к какой-либо этнической группе, ее обычаям и т. д., они обыкновенно называют какие-то конкретные отрицательные черты, свойственные, по их мнению, данной группе. Однако те же самые черты, взятые безотносительно к данной группе, вовсе не вызывают отрицательной оценки или оцениваются гораздо мягче. «Линкольн работал до глубокой ночи? Это доказывает его трудолюбие, настойчивость, упорство и желание до конца использовать свои способности. То же самое делают „чужаки“ — евреи или японцы? Это свидетельствует только об их эксплуататорском духе, нечестной конкуренции и о том, что они злостно подрывают американские нормы».
Социологи Сэнгер и Флауэрмэн отобрали несколько черт из обычного стереотипа, «объясняющего» плохое отношение к евреям, и стали опрашивать предубежденных людей, что они думают об этих чертах — корыстолюбии, материализме, агрессивности как таковых. Оказалось, что, когда речь идет о евреях, эти черты вызывают резко отрицательное отношение. Когда же речь идет не о евреях, те же самые черты оцениваются иначе. Например, такую черту, как корыстолюбие, у евреев положительно оценили 18 процентов, нейтрально — 22, отрицательно — 60 процентов опрошенных. Та же черта «у себя» (то есть у американцев) вызвала 23 процента положительных, 32 нейтральных и 45 процентов отрицательных оценок. Агрессивность у евреев одобрили 38 процентов. Та же черта применительно к собственной группе дала 54 процента одобрительных оценок. Дело, следовательно, вовсе не в отдельных свойствах, приписываемых этнической группе, а в общей отрицательной установке к ней. Объяснения враждебности могут меняться и даже противоречить одно другому, а враждебность, тем не менее, остается. Легче всего это показать на примере того же антисемитизма. В средние века основным «аргументом» против евреев было то, что они распяли Христа, который сам был евреем, и, следовательно, речь идет не о национальной, а о религиозной вражде; многие верили, что евреи имеют хвосты, кроме того, они считались нечистыми в физическом смысле. Сегодня мало кто утверждает, что евреи нечистоплотны. Потеряла значение для большинства людей и религиозная рознь. А предубеждение осталось. Гитлеровская пропаганда, чтобы натравить на евреев простых людей, говорила о «еврейском капитале», ставя знак равенства между евреями и «международными банкирами»; американские маккартисты обвиняли евреев в «антиамериканизме», связи с «коммунистическим заговором» и т. п.
Кстати сказать, в силу многообразия индивидов, составляющих любую нацию, и противоречивости любой национальной культуры любая черта этнического стереотипа может быть одинаково легко и «доказана» и «опровергнута».
Однако стереотипизированное мышление не вникает в противоречия и «тонкости». Оно берет одну, первую попавшуюся черту и через нее оценивает целое. Как оценивает? Это зависит от установки. Для сиониста евреи — воплощение всяческих достоинств, для антисемита — воплощение всевозможных пороков. Один и тот же по формальным, внешним признакам антисемитский стереотип может символизировать самые разнообразные социальные установки — мелкобуржуазную оппозицию крупному капиталу («еврейский капитал»), враждебность господствующего класса социальным переменам («вечные смутьяны») и специально — антикоммунизм, воинствующий антиинтеллектуализм (еврей символизирует интеллигента вообще). Во всех этих случаях враждебная установка — вовсе не обобщение эмпирических фактов, последние призваны лишь подкреплять ее, придавая ей видимость обоснованности. И так обстоит дело с любой этнической группой, с любым этническим стереотипом.
Против любого национального меньшинства, любой группы, которая вызывает предубеждение, всегда выдвигается одно и то же стандартное обвинение — «эти люди» обнаруживают слишком высокую степень групповой солидарности, они всегда поддерживают друг друга, поэтому их надо опасаться. Так говорится о любом национальном меньшинстве. Что реально стоит за таким обвинением?
Малые этнические группы, и в особенности дискриминируемые, вообще обнаруживают более высокую степень сплоченности, чем большие нации. Сама дискриминация служит фактором, способствующим такому сплочению. Предубеждение большинства создает у членов такой группы острое ощущение своей исключительности, своего отличия от остальных людей. И это, естественно, сближает их, заставляет больше держаться друг за друга. Ни с какими специфическими психическими или расовыми особенностями это не связано.
Читать дальше
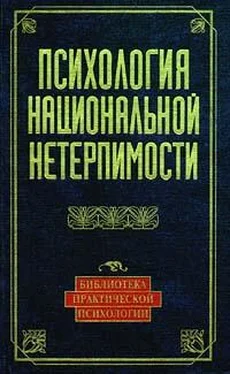


![Юлия Чернявская - Тайны погорелого театра [СИ]](/books/420494/yuliya-chernyavskaya-tajny-pogorelogo-teatra-si-thumb.webp)
![Юлия Чернявская - Да здравствует королева! [СИ]](/books/420495/yuliya-chernyavskaya-da-zdravstvuet-koroleva-si-thumb.webp)