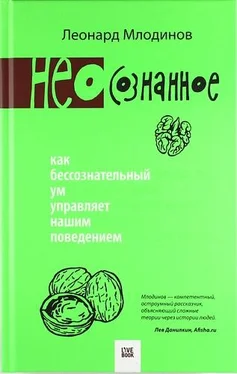Результаты показали, что те участники, которые получили резюме ушлого мужчины, решили, что бывалость важнее для такой работы, и выбрали мужчину, а те, у которых мужчина был умник, сочли, что ушлость явно переоценена, и выбрали мужчину. Со всей очевидностью решение все участники принимали, исходя из пола кандидатов, а не из противопоставления ушлость — образованность, но, судя по всему, не отдавали себе в этом отчета: ни один из участников не упомянул гендер как фактор влияния [411] Eric Luis Uhlmann and Geoffrey L. Cohen, «Constructed criteria», Psychological Science 16, no. 6 (2005), pp. 474–480.
.
Наша культура обожает рисовать происходящее черно-белыми красками. Антигерои все поголовно подлые, двуличные, жадные и злобные. Герои, им противостоящие, — по всем статьям их противоположность. Но правда-то в том, что уголовники, жадные деляги и мерзавцы с нашей же улицы, люди, чьи поступки мы презираем, обычно уверены в своей правоте.
Силу своекорыстия при оценках данных о различных социальных ситуациях отлично проиллюстрировал ряд экспериментов, в которых исследователи в случайном порядке предложили добровольцам роли истца или ответчика в театрализованном судебном разбирательстве, срежиссированном по мотивам реального случая, произошедшего в Техасе [412] Обо всех экспериментах этого исследования См. Linda Babcock and George Loewenstein, «Explaining bargaining impasse: The role of self-serving biases», Journal of Economic Perspectives 11, no. 1 (Winter 1997), pp. 109–126. Linda Babcock et al., «Biased judgments of fairness in bargaining», American Economic Review 85, no. 5 (1995). pp. 1337–1343; также См. другие работы, на которые ссылаются авторы.
. В одном из этих экспериментов ученые выдали обеим сторонам документацию по делу: мотоциклист, сбитый автомобилем, судится с водителем. Испытуемым сообщили, что в реальном разбирательстве судья присудил ответчику выплатить истцу сумму от 0 до 100 000 долларов, а затем участников разбили на пары «истец-ответчик» и дали полчаса на выяснение отношений и выработку своей версии исполнения предписания. Исследователи сказали испытуемым, что те получат деньги в соответствии с достигнутыми соглашениями и объявили «гвоздь программы»: любой, кто угадает с точностью до 5 000 долларов, каков был реальный вердикт судьи, заработает премию наличными.
Чтобы найти правильную разгадку, участникам необходимо было абстрагироваться от той роли, которую они получили в эксперименте: шанс выиграть премию выше, если подобрать для этого случая самое справедливое решение, основываясь исключительно на фактах и действующих законах. Вопрос состоял именно в том, смогут ли участники соблюсти такую объективность.
В среднем добровольцы, которым досталась роль истца, предположили, что судья предпишет ответчику выплату около $ 40 000, а те, кому досталась роль ответчика, — всего $ 20 000. Вдумайтесь: $ 40 000 против $ 20 000. Если, невзирая на потенциальное вознаграждение за честную оценку справедливого штрафа, участники, которым произвольно выдали роли по ту или другую сторону спора, разошлись во мнениях на 100%, вообразите масштабы искренних разногласий между адвокатами с обеих сторон судебного разбирательства или переговорщиками при дальнейшем финансовом улаживании дела. Мы оцениваем информацию предвзято и не осознаем этого, и такое положение дел может тормозить переговоры даже в тех случаях, когда обе стороны искренне желают справедливого решения.
В другой версии того же эксперимента были изучены мыслительные механизмы, задействованные участниками при формировании конфликтующих выводов: в конце переговорной сессии исследователи попросили добровольцев подробно прокомментировать доводы обеих сторон и вынести однозначные суждения по следующим вопросам типа «Мешает ли водителю вести машину заказ пиццы с луком по мобильному телефону?» и «Влияет ли на безопасность вождения бутылка пива, выпитая за пару часов до поездки на мотоцикле?» Как и в эксперименте с приемом на работу шефа полиции, испытуемые с обеих сторон склонны были обращать больше внимания на факторы, которые поддерживали их собственные выводы, нежели на те, что поддерживают мнение оппонента. Эти эксперименты указывают на то, что участники, зная, на какой стороне им предстоит выступать, знакомились с фактами дела так, что бессознательно, неуловимо формировали суждения предвзято — и тем самым задавили всякое намерение разобраться в ситуации объективно.
Исследователи решили пойти дальше и предложили привлеченным участникам оценить факты аварии до того, как сообщили им, какую сторону кто будет представлять. Затем участникам раздали роли и попросили предложить справедливую сумму откупных, так же пообещав вознаграждение за самую близкую к реальности цифру. Испытуемые в этом эксперименте рассматривали обстоятельства дела непредубежденно, но оценки суммы делали, уже зная, на какой стороне им играть. В таком раскладе разница в оценках упала с $ 20 000 до $ 7 000 — почти на две трети. Более того, результаты показали: после того, как участникам дали проанализировать сведения по делу, прежде чем те заняли свои места в дискуссии, количество пар «истец-ответчик», не пришедших к согласию за предписанные полчаса, упало с 28% до всего лишь шести. «Побыть в чужой шкуре» — клише, но, судя по всему, по-прежнему лучший способ понять другую точку зрения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу