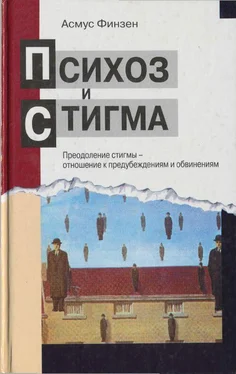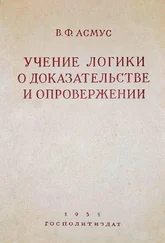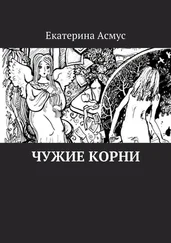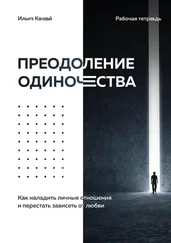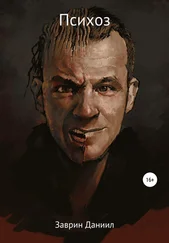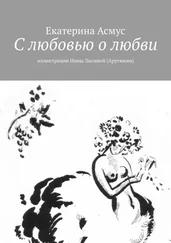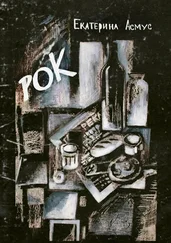В газете Frankfurter Allgemeine Zeitung употребление слова «шизофрения» в качестве метафоры особенно часто встречается в фельетонах. «Воспитание шизофрении» — так была определена сущность народного образования в ГДР, изложенная в дискуссии с Фреей Клир. В качестве примера она приводит передачу Musika universalis, которая якобы «продуцирует собственную шизофрению». В сообщении о театральной политике во Франкфурте Герхард Штадельмайер диагносцирует «одну из шизофрений нашей системы дотаций». Но и редакция экономики не хочет оставаться в стороне от этой терминологии. Она поместила сообщение о волнующем общем собрании членов одного акционерного общества под заголовком: «Акционеры Lonrho: Наше правление шизофренно!».
Neue Zuricher Zeitung употребляет этот инкриминируемый средствам массовой информации термин с особым удовольствием. Быть может, Вальтер Фогт не так уж неправ в своих нападках на цюрихский менталитет. Четыре раза в течение одного месяца на страницах этого издания мы обнаружили слово «шизофрения», примененное в качестве метафоры. Так была озаглавлена статья «Шизофренная лекарственная политика», в которой сообщалось, что швейцарская народная партия оценила современную лекарственную стратегию в Цюрихе как противоречивую и шизофренную. В тот же день в опубликованном письме одного читателя по поводу кантональных мер по экономии средств было использовано выражение «шизофрения без границ». Редакция выбрала для этого материала заголовок «Шизофрения финансовой политики». По меньшей мере еще два раза в том же месяце читатель натыкался на определение такого типа: «одного священника осудили после того, как он охарактеризовал безбрачие как „коллективную шизофрению“». В одном газетном сообщении союз налогоплательщиков высказался об экологической мотивации повышения цен на нефтепродукты как о «неубедительной до шизофренного». Газета по обязанности цитирует определения, употребляемые авторами. Но очевидно, что при приведении цитат употреблению слова «шизофрения» в качестве метафоры отдается предпочтение.
Редакторы и авторы Zeit, кажется, разделяют это предпочтение с коллективом NZZ. Так, например, Ганс Шюлер знает «клиническую картину политической шизофрении». Когда же его внимание обратили на сомнительность этой метафоры, он сообщил в письме в редакцию, что раскаивается, и пообещал исправиться, но, кажется, это было только исключение. Ульрих Грайнер в одном из своих репортажей о «наркотике безнадежности» говорит, что «эта жизненно необходимая шизофрения находится в интеллектуально неудовлетворительном состоянии». Но на совершенно недостижимую высоту поднялся его коллега Клеменс Полачек, чей репортаж о берлинской TAZ так и пестрит метафорами. «Она планировала самоубийство, но при этом не хотела умирать», — читаем мы в подзаголовке статьи, носящей название «Угроза безумия». В заключение он пишет: «Да, это маленькая, неприметная деталь в политической дискуссии, ведущейся в стране. Ни один орган не может чрезмерно развиться, не затронув весь организм. Но вот один орган в ультимативной форме угрожает самоубийством. Как же относиться к самоубийце, который просит вас схватить его за руку? Правильно: у него есть склонность к шизофрении». Полачек завершает свой репортаж следующим утверждением: «Эта газета совершенно сумасшедшая. Ее следует защитить от нее самой». Кого же удивит, если газета Zeit считает возможным, рассказывая о книжной ярмарке, предостеречь читателя от «культурального СПИДа»?
Болезни, пользующиеся дурной славой
Трудно представить себе более убедительный пример, чем оскорбительное употребление в качестве метафоры названия тяжелого, изнуряющего заболевания без оглядки на людей, страдающих этим заболеванием. Стоит еще раз процитировать Сьюзен Сонтаг, которая в своем эссе «СПИД и его метафоры» пишет, учитывая свой личный опыт, связанный с тяжелым заболеванием:
«Что меня больше всего огорчило, когда я двенадцать лет тому назад заболела раком, так это осознание того, насколько „кличка“ этой болезни увеличивает страдания больного. Многие из моих товарищей по несчастью были подавлены своей болезнью и, казалось, стыдились ее. Они явно находились в плену фантазий, касающихся их болезни. Мне же эти фантазии были чужды. Позднее я поняла, что такое отношение к болезни сродни ныне окончательно дискредитированным бредовым представлениям, которые существовали в прежние времена в отношении туберкулеза».
Читать дальше