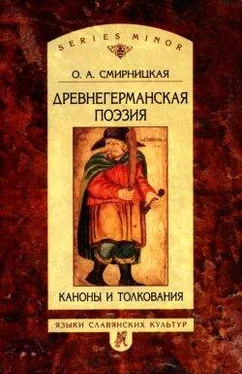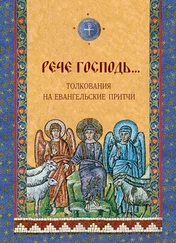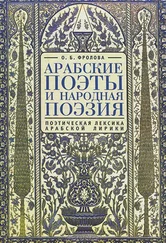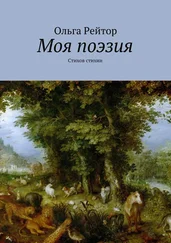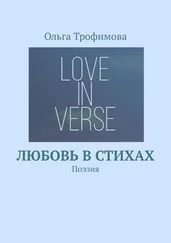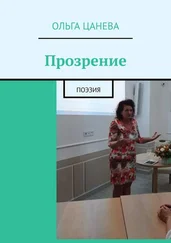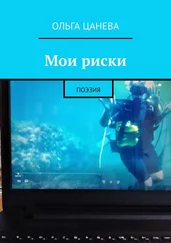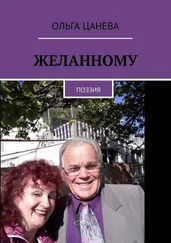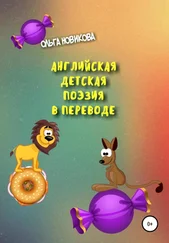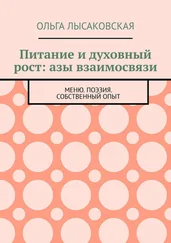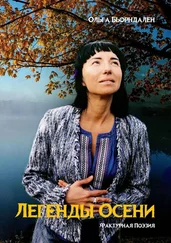Поэтический текст Эгиля не защищен формой. Он дошел до нас (кроме первой строфы – единственной включенной в сагу) из поздней исландской рукописи, и очень вероятно, что стихи, записанные в этой рукописи, значительно отличаются от тех стихов, которые Эгиль произнес когда-то перед своей женой Асгерд, дочерью Торгерд и домочадцами. Стихи, сочиненные «не по правилам», очевидно, сохранялись на протяжении веков не благодаря их «разумному истолкованию», а потому что запомнившие их исландцы интуитивно угадывали их смысл. Но вот что удивительно: те изменения, которые при этом неизбежно вносились в текст, не разрушили поэтической силы стихов Эгиля. Можно предполагать, что изменчивость текста была каким-то образом заложена и в самом оригинале – в текучести его смыслов и размытости границ слов, вступающих в ассоциативные связи с разными словами строфы (и всей песни) и при этом видоизменяющими свою форму. Стихи Эгиля многовариантны, и задача реконструкции оригинального текста представляется при этом едва ли не безнадежной. Они, на наш взгляд, нуждаются не в однозначном истолковании, а в комментарии, учитывающем разные возможности их понимания и те изменения, которым слова могли подвергаться в традиции. Именно такой тип комментария мы и представляем вниманию читателя. Вместе с тем в Дополнении к изданию оригинала мы сочли необходимым поместить и замечательный перевод «Утраты сыновей», принадлежащий С. В. Петрову. Перевод этот, конечно, не дает представления о языковой сложности оригинала. Но лирическое начало стихов Эгиля, столь выделяющее их на общем фоне скальдической поэзии, передано С. В. Петровым с большой поэтической силой.
Иного рода трудности для истолкования создает поэма Тьодольва Хвинского «Перечень Инглингов» (IX в.) – одно из наиболее ранних дошедших до нас скальдических произведений. Дело в том, что эта поэма, фактическое со держание которой сводится к перечню правителей из рода Инглингов и упоминанию обстоятельств их смерти, интересовала исследователей прежде всего как историческое свидетельство о легендарном прошлом Скандинавии. Ее стих («квидухатт») принимался во внимание просто как данность и, возможно, собственное изобретение Тьодольва, а сложные именования, в изобилии в ней встречающиеся, – скорее как орнаментальное украшение, для нее не органичное. Иными словами, «правилам» квидухатта Тьодольва, поскольку они в корне отличаются от канонизованных правил дротткветта, было отказано в какой-либо функции, и стихи его не считали заслуживающими филологического истолкования. Вопрос о метрическом каноне «Перечня Инглингов» в его отношении к языку песни рассматривается в данной книге в освещении исторической поэтики. Если автор не ошибается в своих построениях, то «Перечень» приоткрывает перед нами завесу над той стороной деятельности скальдов, которая не получила освещения в ученой исландской традиции и осталась нам почти неизвестной.
Последняя глава посвящена не поэзии скальдов, т. е. произведениям индивидуального авторства, а англосаксонскому эпосу, и уже по этой причине заглавная проблема книги рассматривается в ней под иным углом зрения. Нас интересуют в данном случае языковые механизмы построения эпических тем (в смысле А. Лорда) и прежде всего та роль, которую играют в построении темы звукосмысловые ассоциации ключевых слов культуры. Представляется вероятным, что устойчивые ассоциации, возникающие между этими словами в устной традиции, оказывают воздействие на их развитие в общем языке и методы их этимологического анализа нуждаются в серьезных уточнениях.
Поэтика и лингвистика скальдов [1] Опубликовано в кн.: О. А. Смирницкая . Стих и язык древнегерманской поэзии. М., 1994. С. 335—383.
1. Соотношение между эддической и скальдической формой
Вопрос об историческом взаимоотношении эддической и скальдической формы не имеет однозначного ответа. В плане собственно генетическом поэзия скальдов невыводима непосредственно из эддической поэзии, т. е. не может быть понята как результат постепенного усложнения, окостенения эддической формы, но имеет собственные корни и развивается из иных потребностей общества [Стеблин-Каменский 1947, 390] [2] Клаус фон Зее приводит следующие аргументы против гипотезы происхождения скальдической поэзии из эддической. «(1) Нельзя доказать, что какие-либо из эддических песней древнее скальдических стихов IX в.; напротив, неоспоримо, что большая часть скальдических стихов древнее эддических песней, как это видно из многочисленных примеров влияния скальдической поэзии на эддическую (в строфике, метрике и метафорике). (2) Ниоткуда не следует, что скальдическая поэзия становится со временем более изощренной в формальном отношении; напротив, древнейший дошедший до нас скальдический текст («Драпа Рагнара» Браги Старого Боддасона) отличается предельно усложненной формой, в то время как стихи позднейших скальдов становятся более простыми и утонченными под влиянием эстетики христианского Средневековья. (3) Скальдическая поэзия – это не кратковременная мода (наподобие поэзии трубадуров, расцвет которой длился не более века), но традиция, процветавшая и чтимая в продолжение более полутысячелетия начиная с эпохи викингов, а если принять во внимание происходящие от нее римы, то и более тысячи лет» [See 1980, 17—18]; ср. с несколько иных позиций [Стеблин-Каменский 1978, 90 сл.].
. Столь же несомненно, однако, что несмотря на длительное сосуществование скальдической и эддической поэзии и несмотря на то, что первая из них в известном смысле более элементарна, чем вторая, в эволюционно-типологическом плане поэзия скальдов – это новый этап в развитии словесного творчества, важнейший шаг на пути к индивидуальному авторству. Как показал в своих работах, начиная с диссертации 1947 г., М. И. Стеблин-Каменский, в поэзии скальдов достигла необычайного развития архаическая форма авторства, при которой авторское самосознание распространяется только на форму (откуда ее крайнее усложнение, гипертрофия), оставаясь инертным по отношению к содержанию (от куда невозможность типизации и лирического переосмысления содержания [Стеблин-Каменский 1978, 40—102; 1979а, 64—92; 1979б, 77; 1984, 216—229]. Наконец, изнутри той конкретной исторической перспективы, которая создается взаимоотношением письменных памятников, все приемы скальдического мастерства, каковы бы ни были их генетические истоки (восстанавливаемые путем реконструкции), предстают как результат направленной системной трансформации соответствующих элементов эддической поэтики . Обоснованию данного тезиса в значительной степени посвящена предлагаемая работа.
Читать дальше