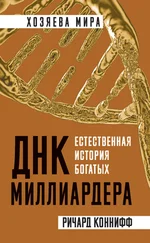«Предположим, – продолжает Гексли, – что, в соответствии с этой доктриной, каждый мускул приходит к заключению, что нервная система не имеет права вмешиваться в его собственное сокращение, если только это не служит тому, чтобы воспрепятствовать ему помешать сокращению другого мускула; или что каждая железа считает, что может секретировать в полной мере там, где ее секреция не повредила бы никакой другой железе; предположим, что каждая клетка предоставлена своему собственному интересу и в отношении всего царит попустительство, – что бы тогда произошло с физиологическим телом? Истина состоит в том, что суверенная власть тела думает за физиологический организм, действует за него и управляет всеми составными частями железной рукой. Даже кровяные шарики не могут соединяться вместе, чтобы не оказаться причиной прилива крови, и мозг, как и другие известные нам деспоты, тут же призывает сталь… ланцета. Как и в „Левиафане“ Гоббса, представитель суверенной власти в живом организме, хотя и получает всю свою мощь от массы, которой управляет, находится над законом. Малейшее сомнение в его авторитете влечет смерть или частичную смерть, которую мы называем параличом. Отсюда следует, что если аналогия политического тела с физиологическим и стоит чего-то, то, мне кажется, что она оправдывает возрастание, а не сокращение государственной власти». (Из эссе «Administrative Nihilism», написанного как ответ Спенсеру и опубликованного в книге «Method and Results». London, 1893.)
См. среди многих прочих: Lilienfeld . Die menschliche Gesellschaft als realer Organismus. Mittau, 1873. Общество есть самый высокий класс живых организмов. Abl. Schäffle . Bau und Leben des sozialen Körpers, 4 Bde, 1875–1878, где автор старательно, орган за органом, производит сравнение тела физиологического и тела социального. Что не помешает Вормсу заново проделать ту же самую тяжелую работу: Worms . Organisme et Société. Paris, 1895. См. также G. de Graef . Le Transformisme social. Essai sur le Progrès et le Regrès des Sociétés. Paris, 1893: «В истории развития человеческих обществ органы, регулирующие коллективную силу, постепенно совершенствуются, осуществляя все более и более мощную координацию всех социальных деятелей. Не то же ли самое происходит в иерархическом ряду всех живых видов, и не является ли степень их организации фактором, предписывающим им их место на лестнице животных? То же самое в отношении обществ: уровень организации есть общая мера, показатель, уровня прогресса; не существует другого критерия их взаимной ценности либо их относительной ценности в истории цивилизаций». Можно сослаться еще на работу: Novicow . Conscience et Volonté sociales. Paris, 1893. Этот тезис имеет большой успех в социалистических кругах, где Вандервельд сделался его пламенным пропагандистом. Наконец, самое недавнее – и лучшее – рассмотрение вопроса находим у биолога Оскара Гертвига: Oskar Hertwig . Der Staat als Organismus, 1922.
De la Division du Travail social. Paris, 1893.
«Следовательно, рассматривать теперешние размеры правительственного органа как болезненный факт, вызванный случайным стечением обстоятельств, – значит противоречить всякому методу. Все вынуждает нас видеть в этом нормальное явление, зависящее от самой структуры высших обществ, так как оно прогрессирует постоянно и непрерывно по мере приближения обществ к этому типу», и т. д., и т. д. (p. 201–202) *.
«Всякий раз, когда мы сталкиваемся с правительственным аппаратом, наделенным большой властью, нужно стараться искать основание ее не в особом положении управляющих, но в природе управляемых им обществ. Надо наболюдать, каковы общие верования, общие чувства, которые, воплощаясь в какой-нибудь личности или семье, сообщили ей такое могущество». (p. 213–214) **. Согласно этому тезису Дюркгейма (на который его вдохновил Гегель), общество отходит от крепкой моральной солидарности, чтобы через процесс дифференциации вернуться к солидарности еще более полной; и в результате власть, после того как была ослаблена, в конечно счете должна усилиться.
См.: Les Formes élémentaires de la Vie religieuse, 2 eéd. Paris, 1925: «Верующий не заблуждается, когда верит в существование моральной власти, от которой он зависит и от которой сам становится лучше; такая власть существует: это общество… Бог есть лишь фигуральное выражение общества» (p. 322–323).
Г-н Марсель Брион рассуждает о начале этого завоевания человеческого прошлого в своем сочинении «La Résurrection des Villes mortes» (2 vol. Paris, 1938).
Читать дальше
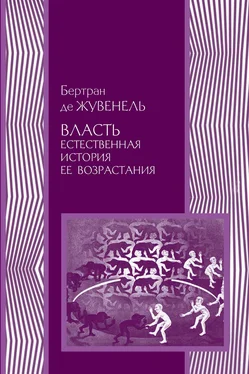
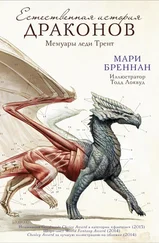

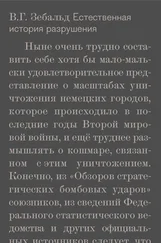

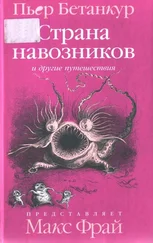
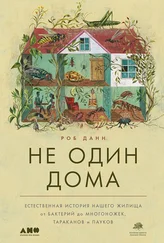
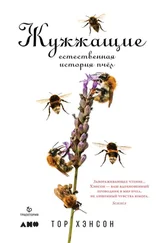
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Путешествие на «Василиске» [litres]](/books/420782/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)
![Мари Бреннан - Естественная история драконов. Мемуары леди Трент. Тропик Змеев [litres с оптимизированной обложкой]](/books/429004/mari-brennan-estestvennaya-istoriya-drakonov-memuar-thumb.webp)