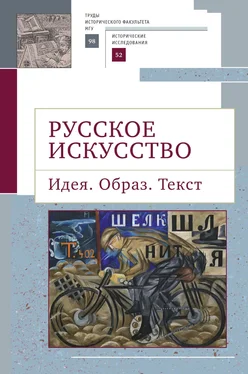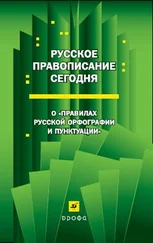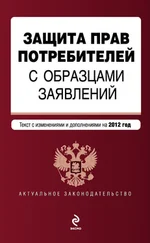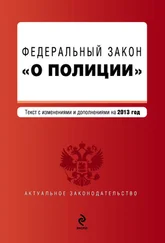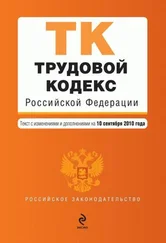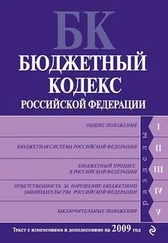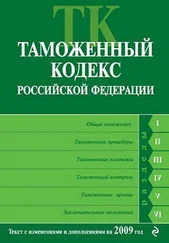В последнее десятилетие в своих трудах Ольга Сергеевна больше внимания уделяла человеку в его отношении к искусству, чем самому искусству. Вопросы его восприятия, так или иначе отраженного в художественном, деловом, научном и ином слове, обсуждаются в книге «Русское художественное сознание XVIII века и искусство западноевропейских школ», вышедшей в 2007 г. 187Большая часть глав этой книги была опубликована в виде статей в сборнике Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств «Русское искусство Нового времени. Исследования и материалы». Это была среда коллег-единомышленников, включая учеников разных поколений. В монографии анализ разнообразных, порой очень редких и малоизученных источников был нацелен не только на выявление интересов к той или иной национальной европейской школе с ее специфическими качествами, но и на раскрытие темы самоидентификации российской художественной культуры в общеевропейском контексте. Показательно, что это единственная монография Ольги Сергеевны, которая имеет эпиграф. Строка из Наказа Екатерины II: «Россия есть Европейская держава» – определяет пафос не только данной книги, но практически всех трудов, включая лекции и спецкурсы, семинары и спецсеминар.
Последняя вышедшая при жизни монография «Московская архитектура и ее создатели (первая половина XVIII века)» 188уже самим названием указывает на связь с первой книгой; дополняя ее, она обещает новые возможности в исследовании локальной архитектурной школы. Основной акцент сделан на создателях. Причем здесь имеется в виду взаимодействие заказчика и мастера. И первому как инициатору уделяется гораздо больше внимания, чем второму, видимо, чтобы в какой-то мере уравновесить существующую в литературе традицию. Портрет «соавтора» архитектора дается на фоне или в обрамлении сведений о постройке, часто почерпнутых из почти забытой старой литературы или непосредственно из архивных источников, что также роднит последнюю книгу с первой. Два очерка, завершающих книгу, можно рассматривать как методологически значимое обращение к читателю, призыв к бинарному восприятию приведенных документальных свидетельств. С одной стороны, чуть ли не за каждым заказом стоит прагматическое указание на образец, следование которому столь же значимо, сколь и самое незначительное от него отклонение. С другой стороны, весь видимый созданный Творцом и его подражателями мир воспринимался человеком XVIII столетия иносказательно и в неразрывной совокупности с эмблемами и символами, что доказывают сны Петра I, Екатерины I и Василия И. Баженова.
Антропологический крен ощущается и в педагогической работе – в том, например, как вела в последние годы Ольга Сергеевна спецкурс «Основы типологии иконографии и атрибуции произведений русского искусства XVIII века», в чем ей активно помогала сотрудник НИИ РАХ Е. А. Тюхменева. За исходный пункт брались человек, его одежда, предметное окружение, жилище, средства передвижения и т. д. Исходя из этого давались типология и иконография произведения, его место в общем художественном процессе. Большое значение в ходе занятий имел непосредственный контакт студента с вещью, которая в виде чашки XVIII в., марочницы XIX столетия, столового ножа начала ХХ в. приносилась в аудиторию, где становилась объектом пристального исследования, по крайней мере, при помощи двух чувств: зрения и осязания.
Конечно, требуется время, чтобы сколько-нибудь полно осмыслить научную и более чем пятидесятилетнюю педагогическую работу О. С. Евангуловой. Отдельного внимания требуют такие сферы, как научные контакты с Санкт-Петербургским университетом 189, где долгое время школу по изучению русского искусства XVIII века возглавляет Татьяна Валериановна Ильина, и Государственным Эрмитажем 190. Особый интерес представляют соавторские научные труды с И. В. Рязанцевым, посвященные архитектуре и садовой скульптуре Москвы 191, усадебной тематике 192, коллекционированию и заказу петровского времени 193, а также судьбе традиционной ветви искусства в новых условиях 194.
В ближайших планах педагога и ученого была подготовка к изданию сборника очерков по историографии, один из которых – «Судьба проблемы реализма в отечественной литературе о русском искусстве XVIII века» – был опубликован в 2006 г. 195
Глава 2. Просвещенческая топография живописного и графического пространства
Из всего разнообразия вариантов трактовки иллюзорного пространства как места действия в искусстве России эпохи Просвещения есть смысл выбрать бытовой жанр, где сошлись интересы нескольких «родов» живописи и графики, включающих сцены в интерьере и ландшафте. Состояние этого жанра в XVIII веке имеет свою специфику, что отразилось в его названиях и названии соответствующего класса Императорской Академии художеств. Одно время этот род живописи именовался «домашними упражнениями». После закрытия класса в 1793 г. бытовой жанр теоретически стал «отраслью живописи исторической» и его назвали «историческим домашним родом» 196. Практически же его функции были переданы портретному классу, программы которого существенно не отличались от «домашнего» 197. При этом в академической иерархии жанров он прочно «обосновался» на третьей по важности позиции, после исторического большего рода и перспективы 198.
Читать дальше