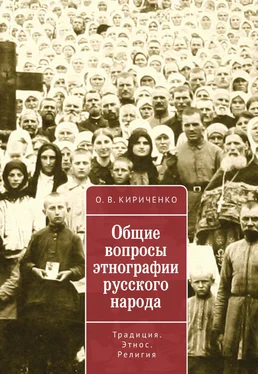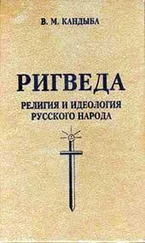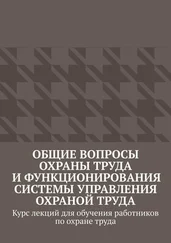Почему же русская этнография не пытается встать на ноги; почему отказывается продолжать поиски искомого «общего», своей, русской теоретической этнологической школы? Ответ прост: чтобы это сделать, надо вернуться к пониманию традиции как первичной ценности, в основе которой лежит религиозный фактор; надо учитывать, что исследование общих вопросов этнического бытия, его культуры и истории, государства, им созданного, можно вести лишь с опорой на духовный стержень (учитывая «фактор Бога», причем, в русской православной традиции – «фактор православно‐христианского Бога»). И тогда следует отказаться от многих, ставших уже привычными штампов о конструировании этноса и этничности, или же о природных путях их зарождения. Начало всем этим ложным идеям было положено еще в советское время, но до сих пор нас пугают, что не надо задавать лишних вопросов, что это несет угрозу стабильности, порядку и самое главное – спокойствию в области межнациональных отношений. Между тем опасность придет, откуда ее не ждут, поскольку быстро нарастает асимметрия между активно этнизирующимися общностями («малых народов») в стране и большой этнической общностью русских, деэтнизирующейся (и самостоятельно, и с помощью русофобских сил). Через этот конфликт между идентичностью и ее отсутствием проходит сегодня Европа (и это ее радикализует), это грозит в будущем и России. По сути дела, причина сегодняшней эскалации терроризма в мире вызвана, в значительной степени, теми же причинами. Но, если выбирать (или продолжать) советский вариант погашения этнической активности – через ее постепенное растворение в идеологии, – то, во‐первых, придется актуализировать идеологический фактор как моноидеологию (против чего сегодня Российская конституция); во‐вторых, придется вести наступление на этничность, и не только русскую, но и на те образцы этничности в России, которые сегодня на подъеме (чеченская, татарская и т. д.). И первое, и второе – опасный путь для роста эскалации, но именно этот путь нам активно навязывается «мировым сообществом».
Рассмотрение общетеоретических проблем в современной русской этнографии требует учета трех факторов: традиции, модерна и постмодерна, что связано с особой методологией исследования, аутентичной каждой из этих мировоззренческих эпох. В этом ключе автор данной монографии и видит свою задачу – обратиться к целому ряду общих проблем, ставящих понимание традиции русского народа в общий контекст российской истории, и в каких‐то отдельных темах – в контекст мировой истории и традиционности. Книга готовилась постепенно, в течение десяти лет, и движение это шло от исследования русской религиозности – православия, к вопросам традиции и далее к наиболее сложной области – этнической культуре, этничности – коренным вопросам этнологии. Общим посылом автора в вопросе об этничности была мысль об особой природе этого сложного явления; этноса как особого организма и этничности как особой духовной субстанции. Этнос – коллективный, народный организм, как и человек, имеет духовную (умственную), душевную (чувственную) и материальную (телесную) природу. Это коллективное тело, коллективная душа и коллективный дух, коллективно‐религиозное «я». В последнем случае таким его делает Церковь, но мы бы не стали вслед за А. С. Хомяковым говорить, что народ церковный и есть сама Церковь, поскольку он входит в Тело Христово, тело Церкви. Все‐таки Церковь и народ церковный различаются.
Автор предлагает по‐новому посмотреть на этнос и этничность, на их сложную природу, но самое главное – внимательно исследовать тот процесс (как сознательно‐организуемый, так и бессознательно‐развивающийся, по причине отступления народа от Бога, веры, нравственности, традиции), который можно обозначить как деэтнизацию народа , распад его этнических скреп и связей, деградацию этнической культуры и т. д. В этом основной посыл данной книги. Автор, конечно, не считает, что возвращение к «фундаментальной теории» возможно только на базе православия и православной духовности, возможны и другие формы базисной теории. Важно лишь, чтобы возвращение это проходило на основе ценностей модерна, когда национальная традиция становится основой для светской культуры. А не по постмодернистским лекалам, когда и традиция используется чуждая, и само использование традиции направлено не на утверждение добра и блага, а на разрушение мира искомой национальной традиции через признание равенства добра и зла, через развоплощение прежних высоких смыслов, фактов и контекстов родной истории.
Читать дальше