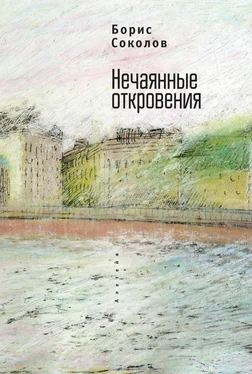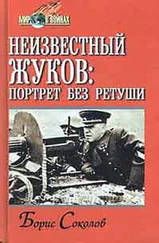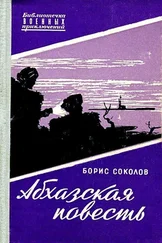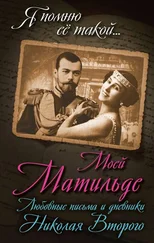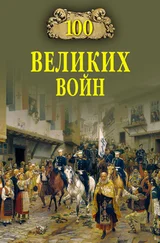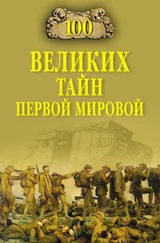Это было время, когда сидел в Киеве гетман Скоропадский, веривший в самостийность, которую обещали немцы, на деле лишь сумевшие спасти его от Петлюры; когда гуляли по Украине батька Махно и прочие атаманы.
Об этом времени остались яркие свидетельства людей творческих – им, выжившим и сердцем пережившим ужасное лихолетье, было назначено, предопределено осмыслить и сохранить память сердца. И положить её на бумагу.
«Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918…» – написал Булгаков в своём романе «Белая гвардия».
Подробно, по горячим следам, рисовал картину всенародного бедствия Артём Весёлый в книге – фактически документальной – «Россия, кровью умытая».
«Тяжёлые немцы ввалились в хлебную Украину и, разметая дорогу огнём и штыками, двинулись на восток. Многочисленные партизанские отряды не могли устоять против железной силы пришельцев и орущим потопом хлынули на Дон, через Дон на Волгу и Кубань…
Немцы заняли Ростов, из Крыма переправились на Тамань и с этих подступов грозили задавить весь благодатный юго-восточный край.
Немцы наседали по всему фронту. На Тамани они высадились со своими сельскохозяйственными машинами, и пошла работа – косили недозревший хлеб, прессовали и увозили всё: муку, зерно, солому, полову; на Дону гребли пшеницу, мясо, шерсть, масло, уголь, нефть, бензин, железный лом и всё, что попадалось под руку.»
Автор пишет, как один лихой молодец Иван Чернояров и дружок его Шалим «попали в банду атамана Дурносвиста. В огне и крови прошли всю Уманьщину. Однако Дурносвист вскоре был уличён в чёрной корысти и повешен своими же отрядниками. Выбранный ему на смену Сысой Букретов в первом бою испустил дух на пике сичевика. Чернояров принял командование над бандой и повёл её по древним шляхам Украины. Под Знаменкой дрались с гайдамаками, под Фастовом – с Петлюрой, под Киевом – с немцами и большевиками. <���…> При самых пустяковых неудачах банда разлеталась, как дым на ветру, и Иван с Шалимом скакали по степи, окружённые двумя-тремя десятками самых преданных. Поворот счастья, и шайка быстро возрастала до нескольких сотен. Боевая, волчья жизнь вырабатывала свои права, которые не укладывались ни в какой писаный устав: смертью карался лишь трус и барахольщик, не желающий делиться добытым с товарищем, всё остальное было ненаказуемо…»
Тут самое время вспомнить о делах, творившихся по соседству – на Дону.
Благостный, привольный край донских степей не мог не родить своего бытописателя, судьбой брошенного пережить время смуты – Михаила Шолохова. Такие человеки не рождаются случайно.
Автор грандиозного полотна «Тихий дон» – подлинный летописец, собравший и воскресивший десятки имён, обликов, характеров, судеб; сотворивший роскошное полотно народных обычаев, нравов, речений; подаривший феноменальные картины русской природы. Всё это, кстати, требует написания солидного тома – исследования, которого, если не ошибаюсь, не существует по сей день.
В колоссальной эпопее Шолохова собраны такие чувствования и человеческие отношения (например, чего стоит по филигранности, тонкости и точности всего одна сцена самой первой встречи во время отпуска офицера-добровольца Листницкого с женой своего фронтового друга – поражаешься, как простой казак, мужик другими словами, по существу неинтеллигент мог написать такое), явлены такие картины жизни, страданий, ранений и смертей, что никаким «докторам живагам» и не снились. Кроме прочих достоинств романа, в нём очень сильна фактологическая основа (чувствуется, что автор был знаком не только с множеством документов того времени, но и прочёл немало мемуаров лиц исторических). С первых страниц повествование забирает читателя во власть подлинностью, достоверностью событий и лиц, в них действующих (от генералов Корнилова и Краснова до атамана Каледина и большевика Подтёлкова). Ошеломляет присутствие многих и многих имён, роскошное разнообразие характеров и внешности персонажей.
Поражает поведение российской интеллигенции (которая, как известно, была не только штатской, но и армейской) – из той самой среды, которая до войны бредила революцией. Вот как автор пишет о состоянии Добровольческой армии:
«Все наиболее мужественные гибли в боях, от тифа, от ран, а остальные, растерявшие за годы революции и честь и совесть, по-шакальи прятались в тылах, грязной накипью, навозом плавали на поверхности бурных дней. Это были ещё те нетронутые, залежалые кадры офицерства, которые некогда громил, обличал, стыдил Чернецов, призывая к защите России. В большинстве они являли собой самую пакостную разновидность так называемой “мыслящей интеллигенции”, облачённой в военный мундир: от большевиков бежали, к белым не пристали, понемножку жили, спорили о судьбах России…
Читать дальше