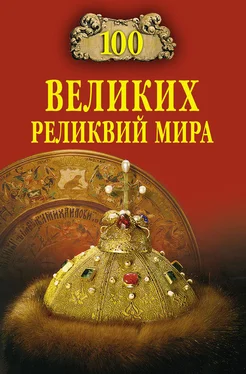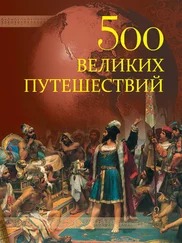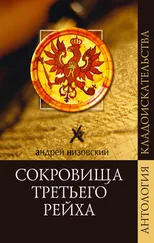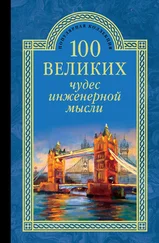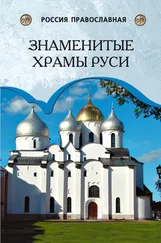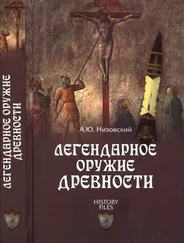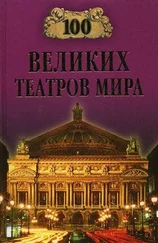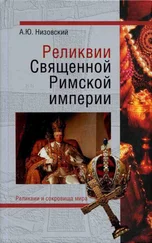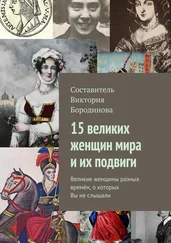Поскольку Маргарита де Шарни так и не вернула реликвию, клирики лирийской церкви представили дело в суд. В 1443 году судья вынес решение в пользу храма в Лири, требуя возвращения всех драгоценностей и реликвий, кроме плащаницы, которую Маргарита де Шарни имела право оставить еще на три года. В качестве компенсации она должна была каждый год уплачивать большую сумму. Причин, по которым дама стремилась удержать реликвию у себя, были две: плащаница «была приобретена ее почившим дедом Жофруа де Шарни… и то, что Лири – место, еще небезопасное для реликвии».
На протяжении четырех лет священники настаивали на своих требованиях в суде, но Маргарита продолжала ссылаться на прежние аргументы. 18 июля 1447 года ей дали отсрочку еще на два года, по истечении которых и после уплаты новой суммы денег клирики разрешили продлить хранение еще на три года.
Интересно, что во время этих судебных процессов, историческая достоверность которых не подлежит сомнению, ткань уже не именуется «образом или изображением», как раньше, но прямо называется подлинной плащаницей Христа.
Маргарита де Шарни всегда держала реликвию при себе. Между тем политические обстоятельства вынудили даму отправиться в Савойю, где она должна была отстаивать интересы и наследственные права своего рода от притязаний герцога Людовика Савойского и его жены Анны Лузиньян. Преодолев многие трудности, Маргарита смогла достичь своих целей. Как видно из договора, который был подписан в Женеве в 1453 году, Людовик Савойский оказался очень щедр с ней из-за «многих и похвальных услуг, которые дама оказала герцогу». Эта фраза может быть намеком на то, с чем сегодня согласны почти все исследователи: Маргарита де Шарни уступила реликвию герцогу Савойскому.
Нетрудно понять причины, по которым герцог так заинтересовался реликвией. Прежде всего он стремился поднять престиж своего рода. Кроме того, его жена, Анна Лузиньян, считала себя по рождению наследницей королей Иерусалима и Кипра, и поэтому особым образом связанной с плащаницей.
Сначала реликвия считалась частной собственностью герцогов Савойских. Она хранилась в домовой часовне и повсюду следовала за двором. Все члены семьи высоко чтили ее. Мало-помалу реликвия становилась все более известной; кардинал Франческо делла Ровере, будущий папа Сикст IV, сообщает о реликвии, находящейся у Савойской династии, в своем труде «De sanguine Christi», опубликованном в 1473 году.
У реликвии еще не было постоянного местонахождения, потому что Савойский двор постоянно возил ее с собой, считая средством от всякого рода опасностей. Конечно, в этом был очевидный риск. Поэтому постепенно возникла идея возвести в Шамбери специальную часовню, чтобы хранить там плащаницу. Таким образом, реликвиия перестает быть частной собственностью и становится драгоценностью всей Савойи, а позднее – и всей Вселенской Церкви.
12 июня 1502 года реликвия была торжественно перенесена в часовню в Шамбери. Епископ Гренобля лично нес ее в руках. События в Шамбери вызвали огромный энтузиазм верующих; фамильная часовня герцогов Савойских в одночасье стала самым популярным в Европе местом массовых паломничеств. В 1506 году папа Юлий II утвердил тексты литургии для публичного почитания реликвии и провозгласил 4 мая праздником Плащаницы. Несколько лет спустя было основано братство Святой Плащаницы.
4 декабря 1532 года в ризнице часовни в Шамбери произошел пожар. Хотя реликвию вовремя удалось спасти, одна из сторон серебряного ящика, где она хранилась сложенной, оплавился от высокой температуры, и капля расплавленного металла прошла насквозь через все слои ткани. В следующем году на праздник Плащаницы, 4 мая, реликвия не была выставлена, что вызвало разочарование верующих. Поползли слухи, что она сгорела во время пожара. Об этом писали, в частности, Рабле в «Гаргантюа и Пантагрюэле» и Жан Кальвин в трактате о реликвиях, иронизировавший над их подлинностью.
Чтобы заставить замолчать оппонентов, было необходимо вновь проверить аутентичность плащаницы. Папа поручил эту задачу карди-налу-легату Людовику де Горрево.
Исследование состоялось 15 апреля 1534 года. Реликвия была принесена из башни, где хранилась, в часовню и разложена на столе. Были допрошены двенадцать свидетелей, которые до пожара прикасались к ней своими руками и показывали ее народу. Все подтвердили ее подлинность. Тогда кардинал-легат торжественно провозгласил, что это – аутентичная реликвия. После этого он передал ее сестрам-кларисскам и поручил им восстановить то, что было повреждено.
Читать дальше