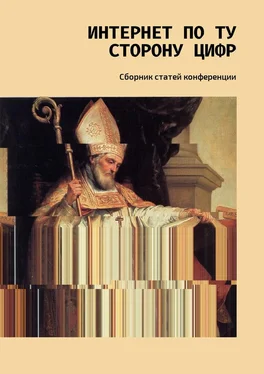Измененная практика: смерть, пространство, подростки и искусство
Первая часть сборника посвящена тому, как те или иные уже существующие области деятельности или практики меняется в присутствии интернета. Начнём со смерти. Работа Марии Тренихиной, Евгении Бельской и Дарьи Ляликовой «Практики взаимодействия с „мертвыми страницами“ в Рунете и отношение к феномену digital death » – один из первых эмпирических подходов к этой теме, предпринятых в русскоязычном исследовательском пространстве. Исследовательницы описали, как в социальной сети Вконтакте существуют аккаунты мертвых людей, и провели глубинные интервью с теми, кто еще жив. В интервью выявляется, почему люди оставляют/не оставляют аккаунты умерших у себя в друзьях, а также обнаруживается, что пользователи посещают страницы неизвестных им умерших людей, и это довольно распространённая практика.
Но что вообще люди – в частности, подростки, – делают Вконтакте? Почему они иногда удаляют аккаунт полностью или имеют по несколько профилей в социальных сетях? Как они презентуют себя в интернете и почему не пишут там про хобби? Об этом – статья Дианы Королевой и Евгении Томилиной «„Портрет“ современного подростка через его самопрезентацию в социальной сети». Основный вывод Дианы и Евгении таков: интернет для подростка представляет возможность делиться переживанием настоящего, а не работать в качестве архива. Пользователи возвращаются к своим старым постам, редактируют их или удаляют, подстраивая содержание профиля под «актуального себя». Однако же нельзя сказать, что «интернет теперь не архив, а только часть коммуникации», потому что для других групп пользователей это не будет верно.
Исследование Татьяны Мироновой позволяет узнать, как используют интернет художники – и это совсем не похоже на то, что делают подростки. Вообще, интернет и искусство уже прошли несколько стадий взаимодействия, так что от нет-арта мы в основном перешли к постинтернет-арту. Но как существование интернета влияет на саму работу художника, то, что он делает? Татьяна выдвигает гипотезу о том, что интернет становится «новым пленэром», который позволяет иначе посмотреть на исследуемый художником объект, а также иначе распределить этапы работы (изучая, например, не природу саму по себе, а пейзаж через призму Google -карт). Собеседники автора говорят о трансформации работы с пейзажем, с пространством – и это, безусловно, одна из основных тем: трансформация локальности.
Статья Аси Карасевой «Транслокальный Магадан: „виртуальное соседство“ в ВК-паблике „MGDN Магадан“» посвящена уже транслокальности – и не просто возможности расширения границ города, но и тем различениям, которые существовали между магаданцами и не-магаданцами и теперь стали видны благодаря паблику. Транслокальность – это не нечто возникшее, как зачастую пишут, благодаря интернету, а свойство, сформированное всей прежней историей региона. В качестве метода Ася использует виртуальную этнографию – и интересно, как ее статья соотносится с работой классического антрополога Алевтины Бородулиной.
Вызовы для привычных понятий: публичность, анонимность и вовлеченность
Алевтина Бородулина изучала Сахалин и Курилы: военные городки, о. Итуруп и другие поселения, удалённые от «большой земли». Здесь нет привычного жителям мегаполиса широкополосного интернета по проводу, а есть только мессенджеры. Но и публичного пространства там тоже нет, поэтому возникает гибридная среда, где в групповых чатах происходит и приватная, и публичная переписка и выстраиваются новые способы объединения и изоляции.
Работа Алевтины открывает второй блок работ, связанных с тем, как происходящее в интернете может изменить наше представление о, казалось бы, очевидных вещах. В начале ХX в. наблюдалось смешение бинарных оппозиций, но это не значит, что жизнь решительно изменилась: скорее именно в процессе изменения эти оппозиции обрели смысл. Далекое/близкое, быстрое/медленное: эти понятия были сформулированы снова в условиях ХХ в. Похожую судьбу сейчас переживают многие понятия: это же касается, например, того, что выше мы уже сказали про приватное и публичное в мессенджерах.
Следующее, что меняет свое значение прямо на наших глазах – статус анонимности. Всеобщая проницаемость, разоблачения «Викиликс», постоянные новости о новой слежке – все это подтачивало то ощущение анонимности, которое формировалось в интернете прежних лет (да и вне его, если вспомнить программы защиты свидетелей или другие важные явления, построенные на возможности анонимности в ХХ в.) Анонимность внутри интернета требует ревизии потому, что наши ожидания относительно анонимных высказываний оказываются сегодня не соответствующими действительности. В исследовании Оксаны Дорофеевой изучались accounts в анонимных и неанонимных публикациях о сексуальном насилии, размещенных в социальных сетях. Accounts – это обороты речи, которые помогают объяснить свое или чужое неподобающее поведение в ситуации, которая будет подвергаться оцениванию. Гипотеза автора заключалась в том, что в анонимных публикациях accounts реже содержат идею «сама виновата». Оказалось, что все работает не так, и как раз флэшмоб вроде «#янебоюсьсказать» даёт возможность высказаться в более свободном ключе.
Читать дальше