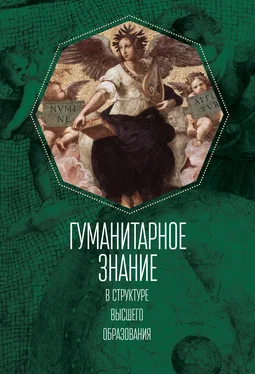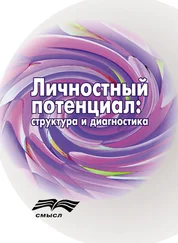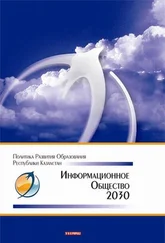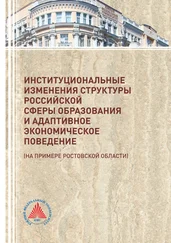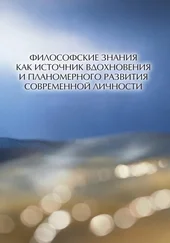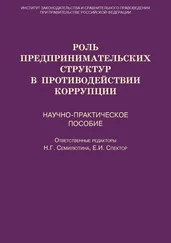Художественный образ всегда есть обобщение, проникновение в суть жизненных явлений, в глубины человеческой души. Литература, как и искусство вообще, – это мышление в образах. Поэзия – наиболее гибкий и тонкий инструмент литературно-художественного мышления; поэтическая мысль поднимается к таким высотам, которые соизмеримы с философскими обобщениями. Но дело не только в «астрономических» высотах. «Стихи, – пишет В. Солоухин, – есть высшая форма организации человеческой речи» [9: 9]. Поэтический образ отличается большой емкостью, многомерностью связей, опосредствований, ассоциаций. В этом качестве он способен отразить и выразить через призму человеческих эмоций, чувств, переживаний, мечтаний вечные философские вопросы, нравственно-эстетические ценности, смысл бытия и познания, борьбы за идеалы справедливости и прогресса. Философия в своих лучших произведениях сродни поэтическим взлетам, поскольку она по природе своей обращена к человеку – его мировоззрению, к системе основных ценностей, извечных проблем, программ поведения и т. п. Не случайно многие философские произведения, особенно в античную эпоху, писались в поэтической форме.
Призыв к объединению поэзии с философией был очень сильным в немецком романтизме конца XVIII – начала XIX веков. Поэзия, не говоря уже о литературе вообще, по-своему пережила всю философскую проблематику: системой своих образов, языком художественных средств.
С кибернетической течки зрения, насыщенность поэтического образа представляет собой сжатие информации. Один из ярких представителен раннего немецкого романтизма В.-Г. Вакенродер писал: «Сгущение чувств есть сущность всякой поэзии; она расчленяет соединенное, крепко соединяет расчлененное. В тесных границах бьются более высокие, более бурные волны» [5: 175]. Эти «более высокие» волны – философский подтекст, диалектика бытия, познания, человеческой души, закодированная в структуре художественного образа, полет поэтического воображения, достигающий горизонтов, где сходятся мироощущение и мировоззрение человека, его чувства и разум, поэтика и логика. Поэтический язык способен оказывать обратное индуцирующее воздействие на человеческую мысль, на весь арсенал философских представлений. «Словесный язык, призванный быть знаком и выражением мыслей, иногда, подобно зеркалу, отбрасывает в наш разум новые мысли и направляет и подчиняет себе повороты рассудка» [5: 175].
В России программа объединения поэзии с философией была принята в 20-х годах XIX века группой поэтов-любомудров. Наиболее ярким представителем этого литературно-философского течения был Д.В. Веневитинов. Он писал, обосновывая свои взгляды на соотношение философии и поэзии: «Первое чувство никогда не творит и не может творить, потому что оно всегда представляет сомнение, Чувство только порождает мысль, которая развивается в борьбе и тогда уже, снова обратившись в чувство, является в произведении. И по тому истинные поэты всех народов, всех веков были глубокими мыслителями, были философами и, так сказать, венцом просвещения…» [6: 212]. Философская рефлексия является необходимым элементом поэтического творчества. Поэт и мыслитель представлены здесь в одном лице. Этот союз дает нам высокую поэзию и философию, в которой слышится биение человеческого сердца.
Философская мысль в русской литературе имеет глубокие корни и богатые традиции. Она берет свое начало в торжественных одах М.В. Ломоносова, в стихах Г.Р. Державина. Высокие образцы лирики находим в стихах Баратынского, Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Бунина, Блока, Брюсова, Есенина. Русская Муза передала свою философскую эстафету советским поэтам. Наиболее ярко выражены философские мотивы в стихах П. Антокольского, С. Кирсанова, Л. Мартынова, Н. Заболоцкого, О. Щипачева, В. Федорова, Р. Гамзатова, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Э. Межелайтиса. В. Шефнера, Е. Винокурова, С. Орлова и других поэтов.
Следует отметить, что в наш информационно-кибернетический, интеллектуальный век и муза становится все более рефлексивной, размышляющей, иногда порывисто-экспансивной, как у Андрея Вознесенского. «Поэзия по природе своей стремится к бесконечности, ставит максимальные задачи, – пишет В. Огнев. – В мире растущей сложности само существование поэзии поставлено под сомнение. Поэзия должна или сдаться на милость победителя – сухому расчету и холодной логике точных сведений о мире, или развить в себе новые мышцы, сделать отчаянную попытку отстоять свое место под солнцем, найдя в самой специфике искусства неиспользованные преимущества. В этом и смысл тяжбы «физиков» и «лириков». Выдерживает соперничество только поэзия, проникающая в существенные, стороны, бытия, лирика прозрения, открытий, анализа. Мир много раз описывали, называли, истолковывали, обживали, приспосабливали к текущим потребностям» [8: 283]. Но мир неисчерпаем для поэзии так же, как и для науки. Нужны новые образы, неиспытанные еще художественные средства, поэтические открытия. Это новое рождается на путях сближения литературного творчества с философским миропониманием. Современная эпоха – время великих синтезов – требует по только интеграции паук, союза философии и науки, она опять (отрицание отрицания) сводит вместе горизонты поэтического и философского мышления. Так неожиданно раскрываются новые грани идеи о союзе философии и науки: ведь это особые формы общественного сознания, и данный принцип применим к анализу соотношения, скажем, философии и искусства (литературы в том числе), науки и искусства на современном этапе их развития.
Читать дальше