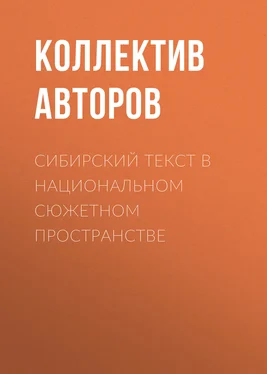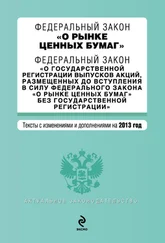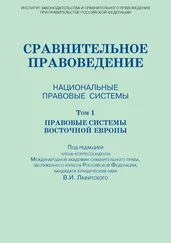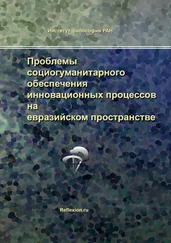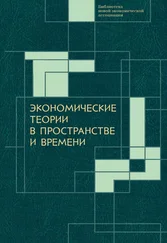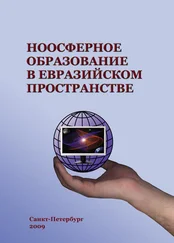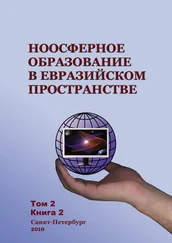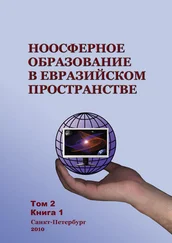Ментально-идеологическая ретрансляция в процессах создания и воспроизводства географических образов Сибири, некая дополнительная пространственная трансакция, связанная с промежуточным цивилизационным положением самой России (и не забудем, что в XVI-XVII вв. это было еще Московское царство, которому довлели по преимуществу византийские ментальные и идеологические образцы сакрального порядка – причем южно-европейского и ближневосточного происхождения 28 28 Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. М., 1995; Богданов А.П. От летописания к исследованию: Русские историки последней четверти XVII века. М., 1995; Цымбурский В.Л. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993-2006. М., 2006.
), вела к значительной интровертации этих образов: образы Сибири могли восприниматься и воспринимались (а следовательно, и регулярно воспроизводились) как некие «внутренние» азиатские образы, необходимые европейской цивилизации для ее ментального равновесия в восточном направлении – Россия была здесь геоидеологическим «учеником» и одновременно «подрядчиком», взявшимся доставлять (хотя бы и частично, не полностью) подобную ментальную продукцию «ко двору». Было бы неверно расценивать такую цивилизационную и метагеографическую ситуацию как ущербную: огромные пространства Зауралья, почти внезапно попавшие в сферу политического влияния Московского царства, требовали соответствующих, достаточно фундированных географических образов, и они были довольно успешно «импортированы» и адаптированы русской культурой, «увидевшей» их для себя вполне органичными; «Сибирская Тартария» – это не только европейский, но и российский образ, хорошо «работавший» в течение XVI-XVIII вв.
Метагеография Сибири как «коллективное бессознательное»
Посредник всегда рискует – рано или поздно – оказаться наедине с амбивалентным образом, лишенным внешней поддержки и подпитки и становящимся неуправляемым, непредсказуемым. Так и случилось с географическими образами Сибири, в известной мере бывшими глубоким «бессознательным» Европы, Запада вообще на его восточном евразийском фронтире, а заодно и автоматическим «бессознательным» России 29 29 Здесь я пытаюсь развить известный постфрейдистский дискурс Б. Гройса, примененный им по отношению к проблематике историософской и культурософской амбивалентности отношений Запада и России, используя по аналогии некоторые положения глубинной психологии К. Юнга; см.: Гройс Б. Россия как подсознание Запада // Гройс Б. Искусство утопии М., 2003. С. 150-168.
. В XIX в. Сибирь, получив своего внешнего геоидеологического двойника – американский фронтир (что осознавалось к середине этого столетия) 30 30 Замятина Н.Ю. Зона освоения (фронтир) и ее образ в американской и русской культурах // Общественные науки и современность. 1998. № 5. С. 75-89.
, – оказалась нужной Европе уже в качестве ближней периферийно-ресурсной окраины – что стало ясно и российской политической и культурной элите. Между тем, подобный образ рассматривается в когнитивном отношении, как правило, в качестве экстравертного, открытого в сторону дальнейших возможных концептуальных расширений.
Возникновение и развитие сибирского областничества стало «лакмусовой бумажкой» для выявления становившихся очевидными содержательных противоречий в образно-географическом комплексе Сибири, складывавшемся в пределах российской цивилизационной целостности 31 31 Серебренников Н.В. Опыт формирования областнической литературы. Томск, 2004; Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири ХIХ – начала ХХ века: особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск, 2005.
. Дискурс «Сибирь как колония» и декларировавшаяся как его следствие культурная и, возможно, политическая и экономическая автономия Сибири были когнитивной реакцией на ментальное раздвоение ключевых элементов географического образа-прототипа Сибири, воспринимавшегося «здесь и сейчас»: интровертивные инерционные элементы «говорили» о некоторой закрытости, глубинности, отдаленности, существовании для себя и в то же время для каких-то «зеркальных» надобностей цивилизационных отображений;
экстравертивные ускоряющие элементы, по сути, вновь копировались с помощью лекал западного воображения 32 32 См. более подробно: Замятин Д.Н. Геократия… Анализ общей проблематики истории и теории сибирского областничества см.: Алексеев В.В., Алексеева Е.В., Зубков К.И., Побережников И.В. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике XVI-XX веков. М., 2004. С. 411-448 (авторы раздела «Сибирское областничество: истоки и эволюция» – К.И. Зубков, М.В. Шиловский); также: Сибирское областничество: Библиогр. справочник. М.; Томск, 2002; Горюшкин Л.М. Дело об отделении Сибири от России // Отечество. Краеведческий альманах. Вып. 6. М., 1995. С. 66-84; Потанин Г.Н. Областническая тенденция в Сибири // Отечество. Краеведческий альманах. Вып. 6. С. 84-100; Сватиков С.Г. Россия и Сибирь // Там же. С. 100-113.
. Однако цивилизационная ситуация в рамках диалога Европа – Россия, Запад – Россия к середине XIX в. была иной, нежели ранее, в XVI-XVIII вв. С одной стороны, Запад не нуждался более в образно-географических «посредниках» – эпоха зрелого модерна диктовала стратегии прямой как военно-политической и экономической, так и цивилизационной экспансии. С другой стороны, именно к этой эпохе относится окончательное становление, оформление российской цивилизации, которая уже могла, хотя и с оглядкой на Европу, развивать основы своего собственного идеологического дискурса, в том числе и метагеографического.
Читать дальше