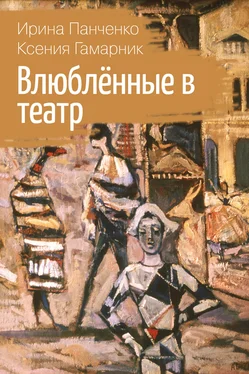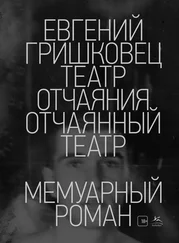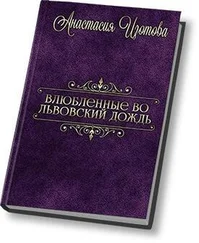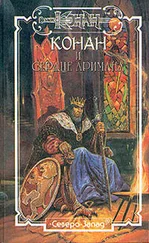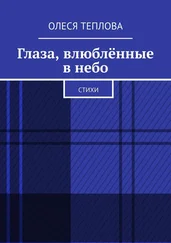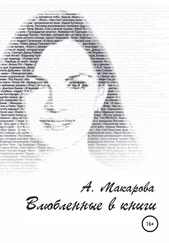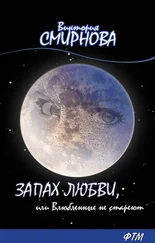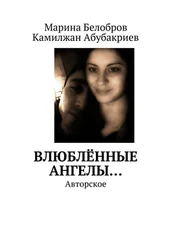Асисяй Полунина очень похож на главного героя повести Достоевского «Бедные люди». Такой же одинокий маленький человек, не очень приспособленный к жизни, добрый и трепетный. Искушённый в психологии Вячеслав Полунин создал такой типаж неслучайно. В одном из своих интервью он объяснял:
«Людям всегда хочется видеть рядом с собой кого-то более слабого, более неловкого, более нелепого и несчастного. Тогда они чувствуют, что у них в жизни всё не так плохо. Если хотите, клоун – это доктор, социальный доктор».
В спектакле Полунина кроме него самого участвует еще несколько комических персонажей в клоунских одеждах: топорщащиеся коробом зелёные пальто, неправдоподобно длинные и плоские ботинки-ласты, шапки-ушанки с утрированно громадными «ушами», торчащими в стороны, как пропеллеры. Вид клоунов с их красными носами и черно-белым гримом, таким же, как у Полунина, нелеп, загадочен, странен. Кто они? Откуда появляются? Из подсознания жёлтого клоуна? Из теней его фантазии?
Решение этой загадки автор оставляет на волю зрительского воображения, зрительских ассоциаций. Полунин сознательно стремится к тому, чтобы не всё было понятно. Именно эти клоуны-фантомы играют на маленьких игрушечных красных гармошках пронзительно-грустную мелодию “Blue Canary” – «Голубая канарейка». Песенка о том, что ушло детство, улетели голубые канарейки и «в общем, все умерли». Откуда ни возьмись, плывут в воздухе со сцены в зал невесомые сверкающие мыльные пузыри, создавая ауру ностальгии по детству.
…На сцене кровать. Она освещается тёплым солнечным светом. Асисяй видит, что эта кровать совершенно замечательная.

Ирина Панченко и Вячеслав Полунин. Нью-Йорк, 2006 год.
Она оснащена мачтой-шваброй и парусом. Не улечься в такую кровать просто невозможно, что Асисяй и делает, чувствует себя там великолепно.
Вдруг, неловко повернувшись, жёлтый клоун падает, однако оказывается не на полу, а в… воде. Асисяй барахтается, похоже, вот-вот захлебнётся. Начинается шторм, поднимается ветер. Со сцены в зал наползает густой туман.
На помощь Асисяю является друг в длинноухой ушанке. Он вылавливает жёлтого клоуна с помощью круга – и вот они уже вместе взбираются на кровать-корабль. Асисяй помогает кораблю плыть, изо всех сил гребя метлой в качестве весла. Детям в зале весело. Буря постепенно стихает…
Подтекст сюжета рождается из соединения детской игры и абсурда. Ведь именно дети мгновенно превращают зелёный коврик в травяную лужайку, а нарисованные горы – в настоящие. Предлагать такой ход мышления взрослым – абсурд. Но Полунин минималистскими средствами создаёт перед нами образ одновременно житейской и природной бури, тесно сплетённой житейской беды с надличностной, которая может грозить человеку гибелью. Помогают одолеть человеку житейскую беду и природную стихию у Полунина таинственные силы – персонажи-фантомы.
В спектаклях Полунина за внешне нехитрыми образами на сцене разворачивается особая, невиданная ранее «философско-поэтическая клоунада». В своих спектаклях Вячеслав запретил «мастерство». В традиционном цирковом спектакле главной является демонстрация физических сверхвозможностей натренированного человека: этот артист глотает шпаги, другой виртуозно жонглирует булавами, третий летает под куполом, а вот этот – и того более – идёт по канату, неся на плечах ещё двоих. У Полунина в его интернациональном театре актёры играют общечеловеческие чувства, грусть и нежность, понятные людям всех национальностей. Тонкая игра настроений заменила игру мускулов.
Как неизмеримо далеко ушла клоунада Полунина от советской бездумной «развлекаловки» прошлых лет!
Непревзойдённым мастером юмористических положений был Юрий Никулин. Актёр Лев Дуров интересно вспоминал об одном из первых номеров Никулина, показанном на общественном просмотре новой цирковой программы: «Отскакали наездники. «Ну, кто хочет быть артистом?» Вытаскивают из зала человека в замасленном бушлате, в замызганной ковбойке, из которой торчит тельняшка… Наездники его подсаживают на лошадь, он, конечно, переваливается, падает лицом в опилки. Как Никулин эти опилки вынимал, как складывал куда-то, как начинал долго рассматривать и жевал задумчиво…». Дуров запомнил, что реакцией зрительного зала был даже не дружный хохот, а коллективное хрюканье, перешедшее в «массовую истерику».
Читать дальше